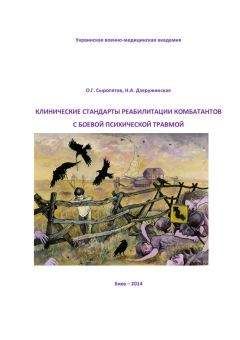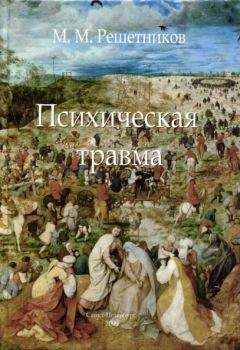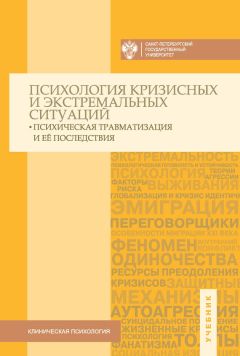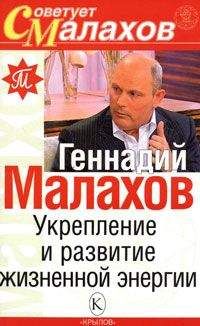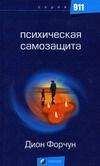Ю. Лебедев. - История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы
Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805-1827)
Как отмечает Л. Я. Гинзбург, поэзия Дмитрия Владимировича Веневитинова интересна внутренней борьбой между новыми поэтическими замыслами и инерцией стиля, который могучие мастера русской лирики создали для других целей, для выражения иного строя мыслей и чувств. В статье «О состоянии просвещения в России» Веневитинов сформулировал цели и задачи того нового направления, которое он и его друзья хотели утвердить в русской поэзии: «Первое чувство никогда не творит и не может творить, потому что оно всегда представляет согласие. Чувство только порождает мысль, которая развивается в борьбе, и тогда уже, снова обратившись в чувство, является в произведении. И потому истинные поэты всех народов, всех веков, были глубокими мыслителями, были философами и, так сказать, венцом просвещения».
Здесь сказывается у Веневитинова мысль Шеллинга об особом назначении поэта в мире. Поэтический гений, по Шеллингу, обладает особой интеллектуальной интуицией, позволяющей ему одухотворять жизнь, прозревая в ней идеальную душу мира, которая творит мироздание. Художник в акте творчества сливается с Творцом вселенной, является проводником Его воли, превращается в орган мирового духа:
К тебе, о чистый дух, источник вдохновенья,
На крылиях любви несется мысль моя:
Она затеряна в юдоли заточенья,
И все зовет в небесные края.
Поэзия мысли у Веневитинова все еще пользуется поэтическими формулами, идущими от старой медитативной элегии Жуковского и Батюшкова: «крылия любви», «юдоль заточенья», «небесные края». Поэтому восприятие философского смысла стихотворения как бы тормозится этими готовыми формулами, настраивающими читателя на традиционное восприятие.
В стихотворении «Жертвоприношение», обращаясь к жизни, Веневитинов говорит, что ей дано:
Ланиты бледностью облить
И осенить печалью младость,
Отнять покой, беспечность, радость,
Но не отымешь ты, поверь,
Любви, надежды, вдохновений!
Нет! Их спасет мой добрый гений,
И не мои они теперь.
Я посвящаю их отныне Навек поэзии святой И с страшной клятвой и мольбой Кладу на жертвенник богине.
«Последние четыре стиха, – отмечает Л. Я. Гинзбург, – несомненно связаны были для Веневитинова с шеллингианским пониманием искусства как высшей духовной деятельности человека. Но жертвенник богине – словосочетание из мифологического словаря поэзии начала века – направляло ассоциации читателя отнюдь не по путям немецкой романтической философии. То же, разумеется, относится и к такой поэтической фразеологии, как беспечность, радость, печаль, младость, любовь, надежда, вдохновенье. Притом радость самым классическим образом рифмуется с младостью».
Поэтому стихи Веневитинова давали возможность «двойного чтения»: «…их можно было прочитать в элегическом ключе и в ключе шеллингианском, в зависимости от того, насколько читатель был в курсе занимавших поэта философских идей». Вот почему в посмертном сборнике 1828 года друзья поэта предпослали его стихам статью, в которой создали идеальный образ прекрасного и вдохновенного юноши-мыслителя. Статья эта, подобно камертону, настраивала читателя на правильное, шеллингианское понимание творческих откровений поэта.
Шевырев Степан Петрович (1806-1864)
По иному пути пошел Степан Петрович Шевырев. В письме к Веневитинову, имея в виду поэтов школы гармонической точности, он сказал: «Ох уж эти мне утюжники! Да, их эмблема – утюг, а не лира!» Поэтому он ломает элегическую традицию, смешивая слова из элегического словаря с одическими, а иногда и с вводимыми в стихи прозаизмами. Здесь Шевырев опирается на традиции Ф. Глинки, который в «Опытах священной поэзии» дал первые образцы поэзии мысли:
И в оный час, как ось земли
Подломится с гремящим треском
И понесется легкий шар,
Как вихрем лист в полях пустынных…
В. В. Кожинов отмечает сближающий Глинку с новой поэтической школой сложный и напряженный лиризм:
Смятен мой дух, мой ум скудеет,
Мне жизнь на утре вечереет…
Огнем болезненным горят
Мои желтеющие очи,
И смутные виденья ночи
Мой дух усталый тяготят.
Следуя за Глинкой, Шевырев успешно преодолевает гладкость и стертость медитативной элегии, превращая натурфилософские идеи Шеллинга в оригинальные поэтические образы-символы. «Двоичность» построения натурфилософии, в которой человек является и частью природы, и субъектом ее самопознания, в стихотворении Шевырева «Сон» (1827) обретает поэтическую реализацию, предвосхищающую лирику Тютчева:
Два солнца всходят лучезарных
В порфирах огненно-янтарных…
Два солнца отражают воды,
Два сердца бьют в груди природы -
И кровь ключом двойным течет
По жилам Божьего творенья,
И мир удвоенный живет
В едином миге два мгновенья.
И сердцем грудь полуразбитым
Дышала вдвое у меня, -
И двум очам полузакрытым
Тяжел был свет двойного дня.
Прибегая к архаическому стилю, Шевырев, по верному замечанию В. В. Кожинова, стремится не к «архаизации» как таковой, а к «расширению» и «усилению» языка, что означало, по сути дела, разрушение по-своему замкнутого стиля «гармонической точности». В стихах «К непригожей матери» (1829) рядом с торжественно-архаическими стихами:
Каких ты чад произвела!
Какое племя дщерей славных, -
стоят другие, близкие к просторечию:
Пусть говорят, что ты дурна,
Охрип от стужи звучный голос…
Третьим поэтом, разделявшим в эти годы шеллингианские увлечения, был Алексей Степанович Хомяков (1804-1860). В своей поэзии он, вслед за Шевыревым, ориентировался на одический стиль, на ораторскую интонацию, на метафоры, облекающие философскую мысль. Ключевой у Хомякова стала тема романтического поэта. «Раскрывая ее, поэт наиболее отчетливо выразил основы шеллингианской эстетики: искусство – воплощение бесконечного в конечном; вселенная – художественное произведение Бога; поэт – провидец, носитель высшего познания и откровения, гений, творящий новые миры» (Л. Я. Гинзбург). В стихотворении «Поэт» (1827) Хомяков показывает процесс рождения поэтического сознания в немом царстве природы в виде Божественного луча, проникающего в душу и сердце смертного человека:
Все звезды в новый путь стремились,
Рассеяв вековую мглу,
Все звезды жизнью веселились
И пели Божию хвалу.
Одна, печально измеряя
Никем не знанные лета,
Земля катилася немая,
Небес веселых сирота,
Она без песен путь свершала,
Без песен в путь текла опять,
И на устах ее лежала
Молчанья строгого печать.
Кто даст ей голос? – Луч небесный
На перси смертного упал,
И смертного покров телесный
Жильца бессмертного приял.
Он к небу взор возвел спокойный,
И Богу гимн в душе возник;
И дал земле он голос стройный,
Творенью мертвому язык.
Философский романтизм существенно обновил проблематику поэтического творчества, обогатил русскую лирику углубленными размышлениями, дал мысли художественный образ, по-новому раскрыл связи человека с природой, с высшими силами мироздания. Многое внес он в самопознание человека, в анализ душевных и духовных его состояний, в диалектику души. Из поколения поэтов-«любомудров» вырос классик русской и мировой философской лирики Федор Иванович Тютчев, к поэзии которого мы еще обратимся, изучая литературу второй трети XIX века.
Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807-1873)
Переворот в стихотворном языке, основанный на смелом и беспорядочном смешении разных поэтических стилей, характерный в целом для поэзии 1830-х годов, проявился наиболее интенсивно и парадоксально в поэзии Владимира Григорьевича Бенедиктова. Лирический герой его стихов, по определению Л. Я. Гинзбург, – «„самый красивый человек“, украшенный всем, что можно позаимствовать в упрощенном виде из романтического обихода. Его романтика, потеряв связь с философией, превратилась в элемент обывательской эстетики… В настоящей поэзии слово оплачивается трудом, борьбой, мыслью, в него вложенной. Отсутствие ценностей за словами приводит к совмещению несовместимого. „Космическая“ грандиозность совмещается с наивной идеализацией мещанского быта, в мировые пространства переносится петербургский бал средней руки». Таков «Вальс» (1840) Бенедиктова:
Все блестит: цветы, кенкеты,
И алмаз, и бирюза,
Ленты, звезды, эполеты,
Серьги, перстни и браслеты,
Кудри, фразы и глаза…
Вот осталась только пара,
Лишь она и он. На ней
Тонкий газ – белее пара,
Он – весь облака черней.
Гений тьмы и дух эдема.
Мнится, реют в облаках,
И Коперника система
Торжествует в их глазах…
В поэзии Бенедиктова достигло вершины то стилистическое брожение, которое составляло характерную особенность поэзии 1830-х годов. При этом Бенедиктов обладал талантом версификатора, свободно и изящно владеющего языком и стихом. На первых порах он обворожил даже очень взыскательных читателей. И. С. Тургенев признавался Л. Н. Толстому: «…Знаете ли вы, что я целовал имя Марлинского на обертке журнала, плакал, обнявшись с Грановским, над книжкою стихов Бенедиктова и пришел в ужасное негодование, услыхав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку?» Поэзию Бенедиктова высоко ценили В. А. Жуковский, А. И. Тургенев, П. А. Вяземский.