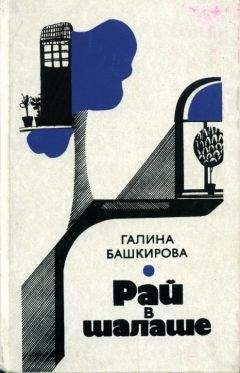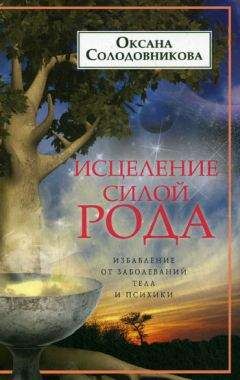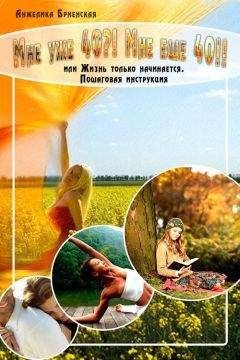Галина Башкирова - Наедине с собой
В XX веке все изменилось. Механизмы заключили в оболочку безличного ящика. Машина потеряла свою понятность. Она утратила принцип открытого для всех действия.
Теперь мы видим только начало и результат действия. А остальное? Таинственный человечек – познанные силы природы, сидящие внутри машины, прежде были видимы и управляемы. Как, впрочем, управляемы были во всех наивных религиях древние боги. Люди льстили богам, приносили дары, наказывали, обижа- ¦ лись. Античный человек, тот прямо-таки стравливал богов, интриговал с ними – одним словом, руководил. Так же как руководил, не выпуская из-под своего контроля, вещами. А что знаем об окружающих нас механизмах мы?
Тикающие часы – это понятно. Невидимый, неслышимый электрический ток, бегущий по проводам, – это непонятно. Пневматические двери в лифтах и электричках, турникеты в метро – это тоже непонятно. К ним нельзя привыкнуть, от них ждешь подвоха. Есть люди, которые бросают в турникет в метро по две пятикопеечные монеты, чтобы увеличить время и успеть пробежать. Если бы у турникетов была кнопка: человек бросил монетку, потом нажал на кнопку, приведя в действие механизм, – насколько было бы спокойнее!
Отношение к турникетам – традиционное отношение человека к автоматике. Она всегда внушала ужас, даже когда ее еще не было, когда человек только мечтал, чтобы за него все делали машины. Вспомним волшебные сказки. Распахивающиеся двери, сами собой накрывающиеся столы – у сказочного героя подобные чудеса никогда не вызывали особого энтузиазма.
У Сергея Тимофеевича Аксакова есть сказка. Она знакома всем с детства – «Аленький цветочек». Героиня попадает во дворец, где все устроено с той мерой комфорта, который человечество довольно скоро сумеет себе создать. Героиня читает светящиеся надписи на стенах, «словеса огненные», ест на скатертях-самобранках, катается на колесницах без коней. И тоскует по живым людям: «Во есех палатах высоких нет ни души человеческой».
Если отбросить сюжет, действие рассказов Брэдбери происходит в той же обстановке: сказочные чудеса материализовались, юркие роботы, прячущиеся в стенах, делают то, что делали прежде волшебные силы. В рассказе «Будет ласковый дождь» сверхкомфортабельный дом гибнет из-за отсутствия человека: человек не пришел вовремя на помощь автоматическому уюту. В «Аленьком цветочке» ненужные чудеса рассеиваются и исчезают в ту минуту, когда торжествует любовь: механизированный рай оказывается ненужным и нечеловечным. Нужным становится безобразное чудище, пусть отдаленно, но похожее на человека. Живое.
Багров-внук, Аксаков, пересказывая сказку ключницы Палагеи, не подозревал, что в незатейливой форме поведал о вечных проблемах: о законах человеческого восприятия, о том, что происходит с психикой человека при неосмотрительном употреблении техники, о том, что реализованная мечта не всегда приносит счастье. Не об этом ли, в сущности, предупреждает нас все творчество Брэдбери?..
Человека все больше захватывает процесс автоматизации, все труднее представить ребенка, который бы в отсутствие родителей решился разобрать по винтикам телевизор, чтобы найти, где прячется изображение. Телевизор уже был, когда он родился. Это некая данность. И на телефон ребенок не смеет посягнуть. (Но он уже готов поменять автоматическую игрушку на светлячка, как это делает герой «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского: светлячок «живой и светится».)
В телефоне так же, как в турникете, заключена некая магия. Набираешь номер – слышишь голос. Телефон – вещь, отчужденная от нас, мы в ней не участвуем. Это в начале века надо было совершить некое действие, чтобы позвонить по телефону, надо было покрутить ручку, поговорить с телефонисткой-. «Барышня, соедините скорее, я очень тороплюсь». Барышня что- то путала, соединяла не с тем абонентом, вы нервничали, приводили свои резоны, вы соучаствовали в процессе связи. Существовал промежуточный человеческий момент, телефон очеловечивался, действие теряло магический смысл.
Представьте себе дикаря, которому дали телефонную трубку, и он внезапно услышал голос приятеля. Ему стало бы страшно, правда? Но если голос приятеля вызвал стоящий рядом колдун, это, конечно, тоже таинственно, но не так страшно. Появилось связующее звено, коммутатор, это он взял на себя тайну.
У нас нет колдуна, ученого человека своего времени, творившего вполне научные для своего времени чудеса. Почти совсем исчезли и телефонистки. Мы вынуждены общаться с миром автоматов без коммутатора, без одушевляющего их начала. Хорошо сказал об этом Норберт Винер: «Силы машинного века вовсе не сверхъестественны, но все же они не укладываются в представления простого смертного о естественном порядке вещей».
Конечно же, это происходит не на сознательном уровне. Мы знаем, что такое электричество, мы смутно соображаем, как устроен телефон, и про телевизор, поднапрягшись, мы сумеем что-то вспомнить, мы собираем установки собственными руками. Мы твердо усвоили со школьной скамьи, что никакой м-истики нет. То, что мистично, просто пока не познано. Мы знаем…
Но в общении с любыми автоматами это знание не помогает. Слишком за короткий срок вошли они в нашу жизнь. Психика человека едва успевает приспосабливаться к ним. Может быть, поэтому мы неосознанно ждем от машин действий, которых они никак не могут произвести.
Человек очеловечивал «первую природу». Попав внезапно – внезапно в перспективе тысячелетий – в окружение природы второй, он невольно перенес на нее груз прежних, не изжитых до конца страхов и опасений.
И вот психологи замечают: когда человек «выходит на машину», то есть идет считать свою задачу на ЭВМ, он норовит сделать это вдвоем, хотя вполне мог бы работать один, – факт, широко известный каждому практику. Видимо, когда человек спорит с телефонисткой, когда его толкает локтем сосед по ЭВМ – это нужно, техника при этом очеловечивается.
И в машинном зале, где идет работа, где стоят ЭВМ, с подсознательной радостью встречают постороннего человека: завхоза, пришедшего приколачивать бирку на стул, библиотекаршу, прибежавшую требовать просроченную книжку, гостя из соседнего института, пристающего с вопросами.
Несколько лет назад я наблюдала поразившую меня картину: с машиной работал – точно, сухо, четко – известный математик. Рядом болтался его лаборант, существо растрепанное, нелепое, погруженное в себя. Лаборант мешал, активно мешал своему шефу.
– Как вы выдерживаете? – спросила я его.
– Видите ли, это трудно объяснить, но парень нам нужен.
Он и вправду был нужен; теперь я это понимаю. Он оживлял безмолвные, бесчеловечные машины, он был коммутатором.
Может быть, такую же роль, роль коммутатора, играют в самолете стюардессы? Не тогда, когда сообщают нам некие данные по радио, а когда идут по рядам, улыбаются, предлагают конфетку?
Стюардессы, лаборанты, телефонистки, официанты (в Америке одно время автоматизировали все закусочные, и вот тут-то хозяева их начали терпеть убытки, закусочные пустовали; выяснилось, что человек приходил не просто позавтракать, ему нужно было общение, ему хотелось, чтобы стакан апельсинового сока подали человеческие руки), продавцы – все это профессии нужные, важные, иллюстрирующие нашу поразительную тягу к человечности в мире современной техники.
«Это не просто отрасли, призванные выполнять план, а службы, непосредственно имеющие дело с людьми, со всем разнообразием их вкусов, с человеческим настроением, – говорил Леонид Ильич Брежнев на XXIV съезде партии. – Сводить их работу только к процентам выполнения плана и прибыли, видимо, нельзя».
А почему нам так хочется, чтобы самолеты летали при помощи машущих крыльев, как птицы? Почему так нецелесообразно устроена передняя часть автомобиля, зачем мы настойчиво прячем мотор, ведь он никому не мешает, почему места для пассажиров, автомобильный салон становится все больше похожим на жилую комнату? Мода? Но ведь мода – это тоже способ включения вещи в человеческий круг.
Почему в тех же машинах шоферы развешивают фотографии красоток, вырезанные из иллюстрированных журналов, а в машинах частников впереди болтается на веревочке чертик, медвежонок, куколка, а сзади кладется для всеобщего обозрения плюшевый тигр или заяц, или еще какой-нибудь, желательно лохматый, зверь? Тоже мода?
Почему летчики называют свои самолеты по имени и хлопают по крылу, как хлопают по плечу приятеля? А пушки, минометы, снаряды? У них тоже есть свои имена. Это началось в годы первой мировой войны и получило особенно широкое распространение во французской армии. Есть даже специальный словарь арго французских солдат времен первой мировой войны, где все страшное называлось нестрашными домашними именами. А пулемет «максим»? А наша «катюша»?