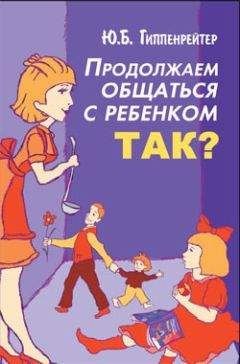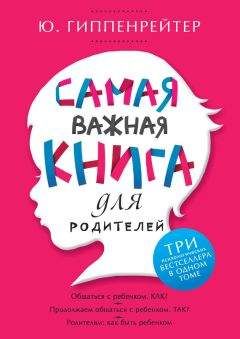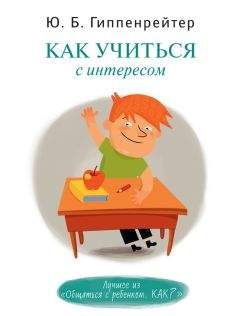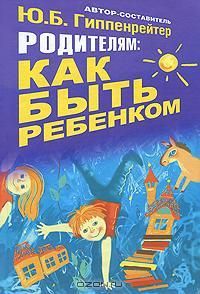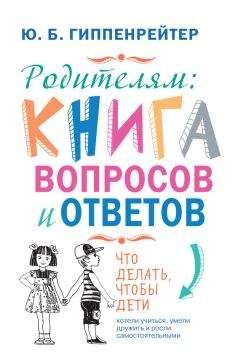Сергей Шавель - Общественная миссия социологии
Социология как форма стабилизационного общественного сознания. Социологию принято относить к числу публичных наук. Действительно, некоторые ее результаты привлекают всеобщее внимание: рейтинги политических лидеров и партий, электоральные предпочтения, данные об умонастроениях и ожиданиях разных категорий населения, оценки важных событий и государственных решений, общественное мнение о стратегических направлениях развития, векторах международной политики и интеграции, отношение к тем или иным теле– и радиопрограммам, передачам, печатным органам, предложения населения по разным проблемам повседневной жизни, спрос на товары и услуги и др. Все это важная часть социологической работы и от ее качественного выполнения зависит степень самопознания обществом самого себя, а значит, и социальные настроения людей. Социологические опросы действительно обладают свойством «самоосуществляющегося прогноза», и в этом их большая сила и огромная ответственность науки. Но ошибочно полагать, что опросы «создают» общественное мнение. Нет, общественное мнение формируется по своим законам и существует в самых разных формах. Например, никто не изучал общественное мнение о Хрущеве или Брежневе, но оно постепенно сформировалось и к концу их деятельности стало весьма устойчивым, хотя выражалось главным образом в анекдотах, карикатурах, аллюзиях (намеках) и т. п.
Но социология в современном мире является и особой формой общественного сознания, она связывает высшие уровни (философскую метафизику, религиозную трансцендентность, этическую императивность, эстетический идеал прекрасного) со сферой повседневности, переводя высокую символику в ценностно-смысловые определения конкретного социума, приемлемые для каждого человека. Так создается картина социальной реальности, возможная для данной эпохи, которая и является основой мировоззрения. Особенность данной формы общественного сознания в том, что это стабилизационное сознание, которое выражает общую интенцию к поддержанию стабильности, динамической устойчивости социума и поиск инновационных путей повышения его жизнеспособности. В решающей для перспектив развития общества точке бифуркации, понимаемой как столкновение «старого» и «нового», стабилизационное сознание не уничтожает «старое» («до основания, а затем…»), а стремится утилизировать его путем «обновления». Если допустима такая аналогия, то можно сказать, что оно действует так, как православие на Руси во времена Владимира в отношении многих языческих традиций, обрядов и верований, которые ассимилировались и включились в христианское миросозерцание.
Социологическая загадка ю. в. андропова. Ю. В. Андропов, как пишут биографы и мемуаристы, оставил немало загадок. Думается, это связано с тем, что многие его начинания – идеи и практические дела, не укладывающиеся в привычные стандарты, – не были доведены до задуманной автором цели и поэтому оставляют впечатление тайны, или двойного смысла. Одной из таких загадок является высказывание Андропова о том, что мы плохо знаем общество, в котором живем. Это была не только критическая, но и по тем временам достаточно крамольная мысль. Многие были в растерянности: как так – «не знаем», а какое же общество мы тогда строим? Стали говорить, что Андропов ошибся, что ему эти слова «вписали» и т. п. Все это, конечно, были домыслы – приведенная фраза содержалась не в каком-нибудь зарубежном таблоиде, а в теоретическом докладе, посвященном памяти К. Маркса. Не корректны и предположения, что это был рассчитанный удар по отдельным лицам из высшего эшелона власти, которые могли быть связаны с фигурантами начавшихся громких судебных процессов (Щелокова, Трегубова, «хлопкового дела» и др.). Очевидно, что подобная направленность была бы в докладе и не к месту, и неоправданно возбуждающая общественность. Остается признать, что Андропов знал и был уверен в том, что говорил, ведь он был самым информированным в стране человеком и аналитиком.
Действительно, социологический анализ показывал, что созданный при Брежневе образ социализма – реального, развитого, зрелого – оставался мифологемой, далекой от реальности. Тем более, что о недостатках, авариях, срывах поставок и планов запрещалось сообщать не только в СМИ, но и самому Брежневу, чтобы не огорчать. По словам М. Н. Руткевича, бывшего директора головного академического института в 70-е годы и нашего земляка, «изучение общественного мнения фактически оказалось под запретом: власть не хотела знать правды о настроениях народа и, прежде всего, правды о себе»[20].
У Андропова не было причин – ни семейных, как у Брежнева, ни политических, как у Хрущева, – бояться правды о себе, и есть все основания считать, что он хотел и принял бы определенные меры для того, чтобы устранить пробелы в познании «общества, в котором мы живем». Но остается вопрос, насколько отчетливо он понимал, что как без физики невозможно знать строение вещества, так и без социологии – состояние конкретного общества. Судя по предпринятым в то время мерам по отлавливанию прогульщиков, тунеядцев, летунов и т. п., он делал ставку больше на дисциплинарные методы, чем на рекомендуемое социологией мотивирующее управление. Кстати, сегодня у нас никто не проверяет, почему в дневное время посетители магазинов, кинотеатров, кафе и ресторанов, спортзалов не на работе, а тем не менее интенсивность трудовой деятельности на порядок выше, чем в те годы. К тому же были проблемы гораздо важнее, сложнее и первостепеннее. Острейшая из них – подспудное нарастание десоциализации в ряде регионов страны. Фактически формировался странный общественный уклад, не имеющий не только социалистической, но и вообще какой-либо цивилизационной сущности, который можно назвать «реципрокным», т. е. построенным на основе принципа «услуга за услугу». Кассир брал мзду с продавца за продажу ему билета на поезд (а мог бы и не продать: нет и все, как проверишь), продавец с кассира – за товар из-под прилавка и далее по цепочке: сантехник, милиционер, учитель, врач, управдом, депутат и т. д. и т. п. Однако из этой «теневой» схемы выпадали все те, кто не мог оказать какие-либо услуги по должности, т. е. без затраты личных усилий, как тот же кассир и другие должностные лица. Крестьяне, рабочие, пенсионеры, домохозяйки, студенты вынуждены были расплачиваться за такого рода услуги своим трудом. Неслучайно после распада СССР в некоторых суверенных республиках возникли острые конфликты между «своими» («чужих» они выдавили) по поводу несправедливости, коррупции, клановости и т. п. Характерно, что и сегодня власти, как, например, в Грузии, ставят неверный диагноз и вместо того, чтобы осознать явление реципрокности и бороться с ним, ищут внешние причины и источники конфронтации.
Нам приходилось бывать в таких регионах с научными целями: наш отдел, как теперь говорят, «выиграл тендер» на проведение социологического исследования на крупном рыбохозяйственном комплексе одной из республик. Для социологического взгляда элементы реципрокности (особенно по сравнению с ситуацией в БССР) бросались в глаза. Но ни местное руководство, ни СМИ их словно не замечали.
Андропов полагался на другие источники информации, которые, однако, не зафиксировали появление и нарастание реципрокного уклада. Да это и нельзя было сделать без глубокого мониторингового социологического анализа.
С полной уверенностью можно утверждать только одно: если бы в те годы восторжествовал социологический подход к анализу общества и разрешению на этой основе всех тех проблем, которые накопились в период «застоя» с постепенным реформированием государственного устройства, социальной сферы, национальных отношений, экономических механизмов и стимулирования труда, Советский Союз не распался бы.
Кому не нужна социология? (доказательство от противного.) Доказательство от противного представляет собой некоторый мысленный эксперимент, при котором в исследуемую модель искусственно вводится параметр виртуальной абберации. Например, утверждается, что параллельные прямые пересекутся, или скорость звука будет меньше/больше 1/3 км/с[21], и анализируются последствия с выводом о том, что подобное невозможно.
Говоря о социологии, нет смысла задавать гипотезу: «Допустим, что социологии нет…» История сама поставила такой «натурный эксперимент» в ряде стран: в Китае длительностью 25 лет, в СССР – почти 50 лет. Что же произошло за эти годы в СССР? При всех столь впечатляющих успехах (победе в Великой Отечественной войне) нельзя не отметить, что общество постепенно теряло ценностно-смысловую ориентацию «Quo vadis?» («Куда идешь?»). Неразвитость социологического стиля мышления, отсутствие социологического взгляда на мир и конкретных данных о мотивациях, ожиданиях, настроениях разных групп и категорий населения формировали некую иллюзорную картину социальной реальности, в которой парадоксально сочетались, с одной стороны, правильные теоретические положения, но в форме неизменяющихся постулатов, с другой – «левацкий волюнтаризм»: «что хотим – то и сделаем, что сделаем – то и будет истинно (правильно)». Общественное сознание невольно догматизировалось, на индивидуальном уровне возникали явления мимикрии, поскольку рядовому человеку трудно было понять, почему сохраняются неизменными некоторые положения, явно расходящиеся с жизнью (например, в области оплаты труда, распределения и потребления и т. д.). В качестве базовой дисциплины в вузах вместо социологии был введен «научный коммунизм», дисциплина без предмета, ибо даже на модельном уровне параметры коммунистического общества (организация производства, тип экономического уклада, форма государственного устройства и др.) не были четко прописаны, исходя из принципа «каждому по его потребности». Хрущевский проект построения коммунизма к 1980-м годам вызвал не мобилизацию, а скорее смущение и иронию со стороны общественного мнения. Система управления (особенно во времена Хрущева) испытывала перегрузки и рассогласование в силу плохо поставленной обратной связи и многочисленных кампаний, которые начинались как новшества, а завершались ничем. Брежнев ликвидировал два наиболее перспективных начинания: прекратил косыгинскую реформу и заморозил общественное сознание, т. е. остановил поиски в области общественных наук и идеологии в направлении, получившем позже название «китайский путь». Постепенно были выхолощены и сведены на нет такие эффективные инновации, как «щекинский метод», «бригадный подряд», «коэффициент трудового участия», «социальное планирование» и др.