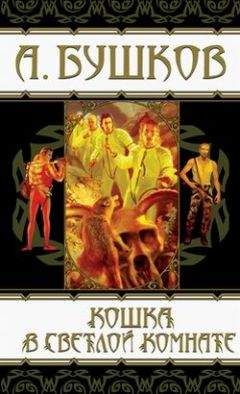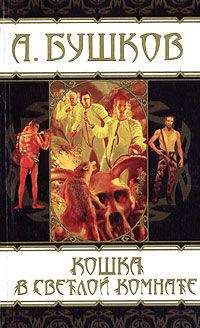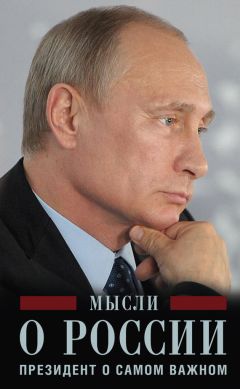Владимир Макарцев - Война за справедливость, или Мобилизационные основы социальной системы России
Наличие сословий и их сложные отношения можно и сегодня увидеть в глухой неприязни деревни к городу и города к деревне, услышать, например, в транспорте, на рынке, в репликах окружающих (чурка, деревня, колхоз, лимита). Поэтому нетрудно предположить, что сословное противопоставление «мы» и «они» в условиях жесточайшей империалистической войны начала ХХ века и в условиях солдатского мятежа становится предельно антагонистическим. Внешне его почти не отличить от антагонизма между трудом и капиталом, между пролетарием и капиталистом. Но все же разница есть – она в масштабах борьбы и в безграничной ненависти (пугачевщина), которая никого не обходит стороной, потому что правами в разном объеме обладает каждый, а иметь их в полном объеме хотят все.
Кроме того, можно увидеть и социологическую разницу: она в том, что сословная революция в феврале 1917 года произошла стихийно, это был неконтролируемый взрыв, чего не скажешь, например, об Октябрьском «перевороте». Тогда стихийность – ее признак. Ее другой признак – всеобщее признание, что тоже отличает ее от Октября. Ведь с ней согласились и сразу приняли все сословия, даже высшие (хотя, понятное дело, не единогласно). В этом смысле показателен эпизод с великим князем Кириллом Владимировичем, двоюродным братом Николая II и командиром Гвардейского экипажа, который привел его, как с издевкой вспоминал генерал П. А. Половцев, «с красными тряпками»[415] к Таврическому дворцу. Этим во многом объясняется полная беспомощность царского режима и скорость его падения – его «не хотели» все сословия. А восстали против него только солдаты, бесправные нижние чины, но встать на его защиту не захотел никто, ни одно сословие.
Не случайно Февральская революция предстает какой-то странной. Как вспоминал А. А. Бубликов, «революция пришла, никем не желанная, никем не подготовленная (ведь все революционные партии были совершенно разгромлены), для всех страшная той неизвестностью, которую она с собой несла».[416] У нее не было лидеров, не было выраженных политических мотивов, произошла она в столице и только потом докатилась до других городов, до армии. Можно даже сказать, что она не была ни буржуазной, ни демократической. Как отмечают наши крупные ученые, Февральская революция, свергнув царизм, не смогла решить основные общедемократические и общенациональные задачи.[417] Но если не смогла, значит и вообще не состоялась, значит, была незаконченной, что, естественно, ставило на повестку дня вопрос о каком-то логическом финале.
Кроме того, если существовала анархия, которая вылилась на улицы, это еще не значит, что была демократия, капиталистическая или пролетарская – как угодно. Не случайно свидетель тех событий, обладавший тонким социальным чутьем и высоким художественным вкусом, М. А. Волошин отмечал: «В Русской революции прежде всего поражает ее нелепость: Социальная революция, претендующая на всемирное значение, разражается прежде всего и с наибольшей силой в той стране, где нет никаких причин для ее возникновения: в стране, где нет ни капитализма, ни рабочего класса. Потому что нельзя же считать капиталистической страну, занимающую одну шестую всей суши земного шара, торговый оборот которой мог бы свободно уместиться, даже в годы расцвета ее промышленности, в кармане любого американского мильярдера».[418]
По нашему мнению, ничего удивительного в этом нет: ведь развитие капиталистических и иных экономических отношений шло исключительно внутри отдельно взятых сословий. Удивительно то, что, в отличие от В. И. Ленина, Максимилиан Волошин вообще не видел в России капитализма. И тогда для него все действительно выглядело вполне нелепо, ведь современники не могли проникнуть в суть социальных явлений. Они все были буквально поглощены идеями социализма, городское «образованное общество» было хорошо с ним знакомо – в то время все увлекались социалистическими теориями, в молодые годы принимали участие в студенческих сходках, читали Маркса и Энгельса, Плеханова. Жизнь людей была так трудна и несправедлива, что они жили ожиданием социализма или умозрительными представлениями о нем, пытаясь связать его красочные образы с окружающей их серой и гнетущей действительностью.
Но, как говорил Э. Дюркгейм, «поскольку наибольшая часть социальных институтов передана нам предшествующими поколениями в совершенно готовом виде, и мы не принимали никакого участия в их формировании, следовательно, обращаясь к себе, мы не сможем обнаружить породившие их причины». Нам нужно, продолжал он, рассматривать социальные явления сами по себе, отделяя их от сознающих и представляющих их себе субъектов.[419]
Выше мы приводили эту цитату в качестве иллюстрации неспособности наших исследователей, интерпретирующих историю в соответствии с собственными представлениями о ней, познать суть социальных явлений прошлого. Похоже, то же самое мы можем отнести и к современникам великих потрясений начала ХХ века. Они тоже получили все социальные институты в готовом виде и не принимали никакого участия в их формировании.
В. И. Ленин, например, увидел и описал признаки капитализма в России, в соответствии с этим выстраивал свою революционную работу, но совершенно не придавал значения сословным отношениям, в рамках которых жил сам, и в рамках которых развивался капитализм. А ведь они насчитывали сотни лет. М. А. Волошин в этом смысле оказался более прозорливым, хотя, конечно, он воспринимал действительность скорее по ощущениям, по чувствам. Возможно, благодаря именно им он видел острее. Поэтому для него, как для человека проницательного ума и обширных знаний, русская революция не соответствовала учению о социализме, о классовой борьбе, казалась нелепой и в этом смысле расходилась с действительностью.
Это, в общем-то, работает на наше предположение о том, что Февральская революция не была ни буржуазной, ни демократической. А поскольку мы ничем не обязаны армии людей, профессионально занятых в социальных науках, то ничто не мешает нам прийти к такому заключению и попытаться донести его до читателей.
Сама же «армия», обладая исчерпывающими данными о крахе марксизма в России, продолжает оперировать марксистскими определениями, марксистской периодизацией, утверждая, в частности, что первые месяцы революции вселяли надежду на ее завершение в «достаточно широких буржуазно-демократических рамках».[420] Правда, писалось это в учебнике 1998 года, и позднее некоторые исследователи стали относиться к этим терминам осторожнее, например, так: «Эсеро-меньшивистское руководство Петроградского Совета считало совершившуюся революцию буржуазной».[421] Но совсем от этой привычной характеристики пока не отказываются – «вторая революция в России была «буржуазно-демократической»»,[422] еще недавно утверждали маститые ученые, авторы популярного учебника истории для вузов, пережившего пять изданий.
Сегодня о буржуазном характере революции стараются вообще не говорить – научная мысль, оплаченная законопослушными налогоплательщиками, не стоит на месте. Теперь ограничиваются фразой «Февральская революция», и на этом все («Великая российская революция 1917 г.» в концепции единого школьного учебника). Иногда говорят о ее либеральных ценностях, еще реже – об ее общинности или народности. В отдельном случае ее называют особым термином – «антипаракапиталистическая» (Ю. И. Семенов).
Ходят как бы вокруг да около. На деле же получается, что, придерживаясь по привычке марксистского понимания Февральской революции, изобретая разные «научные» термины или вообще замалчивая характер революции, современные исследователи расписываются в собственном бессилии познать ее природу. Из этого с неизбежностью вытекает, что и последующие исторические события XX и XXI веков получают в их оценках неверную и даже искаженную интерпретацию – ведь не познав причины, нельзя понять и ее следствия!
Можно, конечно, написать единый учебник, причем любой, поскольку профессионалы вполне едины в своем непонимании истории. Как отмечают некоторые специалисты, «в рамках этой концепции можно написать несколько учебников, которые будут содержать совершенно противоположные оценки одних и тех же событий».[423] Следовательно, единый учебник не будет всеобщим, а значит объективным. Потому что любое упоминание, скажем, Украины, вообще не имевшей на 1991 год собственной истории (время «независимости» на немецких штыках мы не рассматриваем), уже давно представляет собой комплекс не только научных, но и острейших международных, политических, межэтнических и социальных проблем, так как историю пишут государства, а не их территории. Покушение на историю государства кончается для его территории крайне плачевно. О чем, к сожалению, свидетельствует новейшая история той же Украины.
Во многом это результат действий так называемого глобализма. Глобальный империализм вносит существенные корректировки в естественное право истории по созданию устойчивых и жизнеспособных государств. Фактически он намеренно вносит путаницу в историю. А нагромождение западных теорий и мишура постсоветских идеологем в российской исторической науке совершенно выбили наших исследователей из седла, они как-то подрастеряли национальные исторические ориентиры. Наверное, поэтому понимание Февральской революции как социального факта для них остается недоступным.