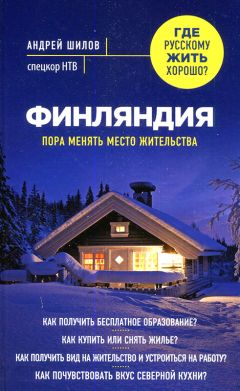Марина Могильнер - Изобретение империи: языки и практики
«Культурная слабость» переселенцев внушала опасение, что, попав под влияние иностранцев и инородцев, русские люди утратят привычные национальные черты, отдалятся от своей родины, потеряют чувство верноподданности и даже подвергнутся ассимиляции. Невысокий уровень цивилизованности самих русских переселенцев и старожилов, хотя и уменьшал культурную дистанцию между ними и местными народами, воспринимался как фактор, чреватый опасностью утраты самой «русскости». Таким образом, переселение русских крестьян на окраины империи и новое иноязычное и иноверческое окружение становились серьезной проверкой самих русских на их устойчивую «русскость», приверженность православию, а социокультурная адаптация могла привести не только к смене идентичности, но и утрате антропологических черт русского человека. Именно в этой связи все громче раздавались голоса об угрозе самому русскому народу, который подвергается «отунгизиванию», «объякучиванию», «отатариванию», «обурячиванию», «окиргизиванию» и т. д. [481] И хотя подобное явление не было повсеместным и заметно было лишь в «маргинальных» группах русского старожильческого населения вдали от основных массивов их расселения, такая «химерическая этнография» [482] не только привлекла общественное внимание, но оказалась востребована в правительственных кругах. Современные исследователи в поиске более точного определения таких «реликтовых» групп русских первопоселенцев на северо-востоке Сибири именно к ним подчеркнуто условно применяют термин «русские старожилы» [483] , заметив, что, строго говоря, эти группы «не являются в полной мере русскими, и уж точно они не более старожилы, чем коренные народы» [484] .
Особенно способствовали возбуждению подобных фобий этнографы, среди которых было много ссыльных народников, а более всего – областники, которые в поисках этнографической и антропологической специфики сибиряков обратили пристальное внимание на отклонения в русском этнокультурном и антропологическом типе населения. Очень много сделали для распространения подобного взгляда родоначальники сибирского областничества, прежде всего наиболее влиятельные из них А.П. Щапов, Н.М. Ядринцев [485] и Г.Н. Потанин. Ядринцев даже подготовил специальную исследовательскую программу, призывая тщательно собирать сведения и анализировать факторы воздействия инородцев на русских, особенно отмечая случаи физического и умственного понижения уровня последних. Его соратник по областническому движению Г.Н. Потанин пришел к выводу:
...Обзор приведенных нами фактов заставляет сомневаться в существовании у русского народа ассимиляционной способности. Мы можем говорить только об ассимиляционной деятельности русского народа, интенсивность которой зависит от целого ряда условий, причем главным регулятором является культурное превосходство русских над инородцами, так как, где этого условия нет, русский элемент сам поддается инородческому влиянию и утрачивает свою национальность [486] .
Много инородческих заимствований фиксировалось областниками в быту и языке сибиряка, эти наблюдения становились хрестоматийными, попадая в учебные издания и популярные книги [487] .
Путешественники и ученые, как люди пишущие, спешили поделиться своими открытиями утраты «русскости» на азиатских окраинах империи с читателями, придавая этому социокультурный и даже политический смысл. Став предметом общественного внимания, эти наблюдения этнографов превратились в политический вопрос о культуртрегерских способностях русских вообще. «Русские, – писала в этом духе газета «Порядок» (26 октября 1881 года), – прибывшие сюда для культурной работы, вместо того, чтобы вывести население из дикости, увлеченные духом завоевания и хищничества, сами сделались дикарями…» Русская культура здесь у инородцев, да и у самих русских «исчахла, извратилась, замерла, погибла», а сами русские «благодаря своему нравственному падению начали занимать у дикарей их фетиши». Об объякучивании русских упоминал писатель И.А. Гончаров [488] , изучавший русские старожильческие поселки Якутской области И.И. Майнов заметил, что все население крестьянского общества и даже его выборные власти предпочитали говорить по-якутски [489] . Попадая в окружение трезвого, трудолюбивого и зажиточного туземного мусульманского или сектантского населения, переселенец не только не мог повлиять на местное население, но и не старался сохранить свои прежние культурные ценности. Оказавшись в инородческом окружении, уже второе поколение колонизаторов Сибири и Средней Азии перенимало образ жизни, одежду, пищу и язык туземцев [490] . Приморский военный губернатор П.В. Казакевич указывал, что такое воздействие оказывают не только якуты, но и камчадалы, среди которых всего за десять лет русские переселенцы «усвоили себе все их привычки и образ жизни, а потомки наших первых поселенцев в Гижиге, Охотске, Удске совершенно почти даже утратили тип русский» [491] . Схожее явление наблюдалось и в Забайкалье, где сибиряки, смешиваясь с бурятами, нередко утрачивали даже свой первоначальный антропологический тип.
«Культурное бессилие» русских крестьян провоцировало поиск врагов, выявление конфессиональных и культурных конкурентов внутри империи, которые могли иметь поддержку и за пределами России. Националистический пафос борьбы с иностранным засилием в Азиатской России вылился в фобию немецкого землевладения, которое якобы угрожает русскому делу на окраинах. Еще более показательным было отставание русского крестьянского хозяйства от немецкого. Казалось, что переселенцы проигрывают иностранным колонистам не только в сельскохозяйственных приемах, но не выдерживают в целом и культурной конкуренции. Немецкие колонисты, как отмечают почти все наблюдатели, демонстрировали более высокий предпринимательский дух, рациональное использование денежных и трудовых ресурсов, они обладали большим трудолюбием, аккуратностью, трезвостью, способностями к коллективной самоорганизации, основанными на принципах протестантской этики [492] . Современные исследователи уже указывали на возникновение «внутрицивилизационного фронтира» в Сибири на рубеже XIX–XX веков не только между переселенцами и старожилами, но и между представителями немецкой и славянской колонизации [493] . Если П.А. Столыпин настаивал на ограждении интересов русского крестьянства от немцев-колонистов, массовое расселение которых в Сибири и Степном крае не отвечало задачам русской колонизации, то семипалатинский губернатор А.Н. Тройницкий уже утверждал, что немцы являются «элементом, вредным для пограничной области и умышленно не передающим культуру русским людям» [494] . Империя так и не нашла однозначного ответа на вопрос: размещать немцев отдельными селениями или перемешивать в одном поселке с русскими. При этом все активнее раздавались голоса об опасности увлечения немецкой колонизацией, что достигло кульминации в борьбе с «немецким засильем» в годы Первой мировой войны [495] . Однако призывы степного генерал-губернатора Е.О. Шмита к предотвращению «онемечивания» Сибири и Степного края и «обрусению» немцев, хотя и были услышаны на самом верху власти, практического эффекта не имели. На азиатских окраинах империя не могла отказаться от услуг немецких колонистов, которыми можно было бы с успехом воспользоваться при заселении и хозяйственном освоении таких мест, которые не были привлекательны для русских переселенцев. Опасными конкурентами «обрусению» в казахской степи и Туркестане объявлялись татары [496] и сарты. Мусульманам неказахского происхождения было запрещено приобретать земли в степи. Нашлось место и угрозе со стороны евреев, в экономическую кабалу к которым могли попасть не только «наивные» туземцы, но и русские крестьяне [497] .
Прибывающие из Европейской России через два или три поколения «осибирячивались», усваивали те черты, которые казались многим наблюдателям отличными от истинно русских. Подобно англичанину, который превратился в янки, «русский преображается в сибиряка» [498] , имеющего даже свой особый антропологический тип и яркие этнографические особенности [499] . Современники отмечали, что сибиряки держали себя особняком и частенько говорили: «Он из России» [500] . П.А. Кропоткин описал в дневнике в 1862 году свои впечатления о характере сибиряка, сознающего «свое превосходство над русским крестьянином». Комментируя это обстоятельство, он пояснял, что «о России и о „рассейских“ сибиряки отзываются с презрением, а само слово „рассейский“ считается даже несколько обидным» [501] . Приехавшему в начале 1870-х годов на службу в Сибирь П.П. Суворову также пришлось столкнуться с подобным явлением. «Это слово „российские“… имеет глубокий, даже политический смысл. В нем заключается представление о России как о чем-то отдаленном, не имеющем родственного, близкого соотношения ее к стране, завоеванной истым русским. В Иркутской губернии, – писал он, – мне даже приходилось слышать слово „метрополия“ вместо Россия» [502] . Он заметил в сибиряках даже некоторую ненависть к приезжим, особенно чиновникам, которых именовали «навозными». Еще более резкие характеристики содержатся в «Записках о Сибири» бывшего политического ссыльного И.Г. Прыжова, который писал в 1882 году в «Вестнике Европы» о том, русский народ совершенно одичал в Сибири, сибирское население «слишком часто, если не вообще, – тупое и озлобленное», ему доставляет удовольствие «сожрать заезжего человека или, как здесь говорится, „российского“» [503] . Ссыльный революционер-народник С.Я. Елпатьевский был поражен увиденным в Сибири: «Среди разнообразных элементов, населяющих сибирскую деревню, нет только одного – русского… „Русского“ не видно и не слышно, России не чувствуется в Сибири» [504] . «Идеал сытого довольства» сибирского крестьянина уже не радовал «интеллигента», как писал один из авторитетных знатоков крестьянской жизни Н.М. Астырев. Уж слишком он был не похож на его собственный идеал русского крестьянина, воспетый и выстраданный великой русской литературой и увлекший на народническое служение многих интеллигентных русских людей. Из-под пера Астырева (с отсылкой на исследования этнографов и собственные наблюдения, а также с претензией отобразить наиболее типичные черты) предстает образ сибиряка как человека, хотя и добившегося известного материального благосостояния, но ставшего «сухим материалистом», забывшим свою историю, утратившего многие прежние нравственные качества и даже равнодушного к религии. Сибиряк привык уважать силу и власть денег, стал человеком самостоятельным и самонадеянным, прагматичным, как американец. Он не музыкален и не поэтичен, равнодушен к школе, хотя более грамотен, чем его собрат в европейской части России. Но эта грамотность не расширяет его «умственные горизонты», а служит лишь утилитарным целям.