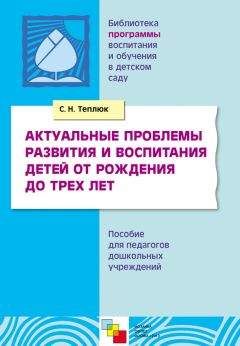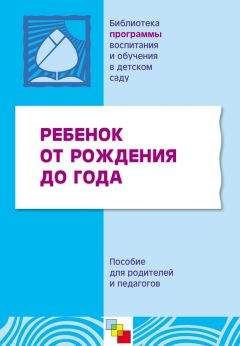Евгений Елизаров - Великая гендерная эволюция: мужчина и женщина в европейской культуре
3.3. Групповой отбор
Правда, справедливость требует сказать, что и там, где нет никаких социальных контактов, становление знаковой коммуникации, общих ценностей, форм обмена ими, а значит, и самого социума тоже немыслимо. Правильней было бы говорить об одновременности рождения и развития всех этих новых надприродных реалий. Сам же процесс их формирования, повторим, должен проходить на уровне региона, где обитает достаточно большое количество участников будущего обмена формами деятельности, ее результатами («товарами») и знаками («словами»).
Проще говоря, речь должна идти о межобщинной кооперации. И даже если видеть в ее становлении действие чисто биологических механизмов, отбор, в результате которого появляются более высокие, надбиологические, формы жизни, должен происходить не в ходе отбраковки малоприспособленных особей, другими словами, на уровне индивидов, а на групповом – и даже межгрупповом уровне.
Теория группового отбора не нова, она появляется еще в прошлом веке. Ее автором принято считать Уильяма Д. Гамильтона, новозеландского биолога, развивавшего теорию, способную объяснить эволюцию альтруизма у животных с позиций естественного отбора. Впрочем, история гипотезы начинается гораздо раньше появления его математических моделей. Еще Дарвин пришел к мысли о том, что отбор действует не только на уровне отдельных индивидов, но и на уровне родственных групп. К этому его подтолкнули наблюдения за социальными насекомыми. Известно, например, что у муравьев, пчел и термитов есть касты работников, не оставляющих потомства. Отбор на уровне индивидов не мог привести к возникновению таких каст. В «Происхождении человека» основоположник эволюционной теории писал: «Не следует забывать, что хотя высокий уровень нравственности дает каждому человеку в отдельности и его детям лишь весьма небольшие преимущества над другими членами того же племени или вовсе не приносит им никаких выгод, тем не менее общее повышение этого уровня и увеличение числа даровитых людей, несомненно, дают огромный перевес одному племени над другим»[192]. Удивительный факт распространения в популяции альтруистических признаков, невыгодных отдельно взятой особи, он объяснял действием группового отбора: альтруистические группы получали преимущества над группами, состоящими из эгоистов, и становились более многочисленными, распространяя тем самым и, как сказали бы сегодня, «ген альтруизма».
В середине прошлого столетия прошла дискуссия между сторонниками и противниками группового отбора. Победа была одержана вторыми, но главным образом потому что отсутствовали прямые доказательства. Сегодня они появились (правда, пока только для микроорганических сообществ), и к вопросу о групповом отборе возвращаются. Однозначного ответа еще нет, однако данные, свидетельствующие о том, что дело не ограничивается селекцией отдельно взятых особей, множатся. Возможно, имеет смысл говорить о многоуровневом отборе (термин Д. С. Уилсона): какие-то гены распространяются в популяции за счет отбора на уровне индивидов, другие – за счет отбора на уровне групп.
Второе из обстоятельств, заслуживающих внимания, состоит в том, что связь между генотипом и фенотипом отнюдь не одностороння. Формирующийся под влиянием конкретных условий среды поведенческий стандарт (а фенотип – это не только особенности строения организма, но и особенности жизнедеятельности, поведения) способен оказывать обратное воздействие на гены. Его влияние прослеживается как в эволюции вида, так и на протяжении жизни отдельного организма. Поэтому меняющееся поведение может вести к изменению факторов отбора и, соответственно, к новому направлению эволюционного развития. Это явление получило название «эффекта Болдуина» (Baldwin effect) – по имени американского психолога, который впервые выдвинул гипотезу в 1896 году.
Между тем история выделения человека из животного царства определяется не одними факторами внешней среды, но и появлением принципиально нового начала, к которому вынужден приспосабливаться организм нашего биологического предшественника. Известно, что характеристики любой функции и особенности обеспечивающего ее выполнение органа связаны между собой, взаимно обусловливают и определяют друг друга. Но если так, то любое изменение старой или становление новой функции немыслимо без структурных изменений. Появление орудий и формирование развитого орудийного фонда означает, что биологическое тело обретает способность к образованию принципиально нового способа связи со своей средой – технологии. Можно предположить, что происходящие изменения порождают, кроме прочего, предрасположенность генотипа к накоплению именно тех мутационных изменений, которые обеспечивают максимальное приспособление анатомических и психофизиологических структур к «технологическому» способу жизнеобеспечения. Иначе говоря, уже с момента своего появления сама технология начинает выступать как сильнодействующее мутагенное начало. Собственные параметры технологии становятся в один ряд с такими формообразующими факторами среды, как ее физические, химические и тому подобные свойства.
Зависимая от географического ландшафта, климата, состава биоценоза и других факторов, технология порождает потребность в качественном преобразовании и диверсификации поведенческого стандарта (назовем его этотипом). При этом наиболее вероятным в развитии как фенотипической, так и генотипической определенности вида будет то направление, в котором обеспечивается максимальное приспособление к особенностям технологической формы движения. А это значит, что со временем развитие самого генотипа становится производным не только от ненаправленного давления мутагенных факторов среды, но и от вполне ориентированного изменения этотипических особенностей одновременно формирующегося социума.
Кстати, действие группового отбора и диверсификации поведенческих стандартов прослеживается и в современном обществе. Оно подтверждается брачной статистикой. Так, процент смешанных браков между ирландцами и англичанами в Ольстере еще недавно был практически нулевой, несмотря на то, что это два народа, соседствующих друг с другом. До 60-х годов в Америке практически не было смешанных браков между черными и белыми, и это несмотря на то, что и черные и белые американцы представляют собой смесь многих разных народов и живут бок о бок не менее двух веков. Более близкие для нас примеры говорят о том же. Так, русские в Риге составляют до половины населения, город говорит по-русски, однако смешанных браков гораздо меньше половины, как должно бы было быть, если бы разные народы на деле представляли собой один и тот же вид в строгих научных терминах. То же во всех других бывших республиках СССР: ни с казахами, ни с грузинами, ни с кем-либо другим не было и близко такого процента смешанных браков, какой следовало бы ожидать при столь тесном контакте и свободном скрещивании в пределах одного вида. Очевидно, что культурные, религиозные, языковые, экономические, политические и прочие различия между этносами целиком или отчасти делают смешанные браки нежелательными. При этом далеко неочевидны биологические последствия запрета на них[193].
Но даже соглашаясь с многоуровневым отбором, следует понимать, что действием одних только биологических механизмов объяснить явления социальной жизни невозможно. Лишь новая система коммуникации в единстве с новой информацией, которая циркулирует по ее каналам, способны обеспечить требуемые перемены.
Вкратце подытоживая, допустимо утверждать следующее. Положение вещей, когда «мужские» и «женские» функции остаются подчиненными особенностям органики (отличиям психики, ритмике физиологии, объему мышечной массы и т. п.), позволяет объяснить поведенческие отличия полов, сопутствующие лишь первым этапам становления социума. Дальнейшее же развитие последнего приводит к тому, что гендер оказывается все менее и менее зависимым от биологического строения организма. С преодолением же какого-то качественного антропогенетического рубежа он начинает все больше и больше подчиняться действию культурных факторов, пока, наконец, их диктат не становится определяющим.
В эпоху зарождения первых межродовых связей женщина и в самом деле становится одним из главных предметов обмена. Но это не может рассматриваться как обмен дарами, иными словами, материями, обладающими ценностью для обеих сторон. Ценность – это начало, имеющее не утилитарное, прикладное, но прежде всего социальное и культурное значение, она присуща предмету вовсе не от его собственной природы, но сообщается природой человеческой субъективности. Ни один предмет не может стать ценностью, не воплотив в себе ту или иную общественную идеологему; без этого он остается безразличным для человека, если вообще замечаемым им, как, например, остается незамечаемым нами земное тяготение, без которого невозможно ни одно отправление жизни. Отсюда и женщина может стать ценностью лишь там, где вокруг нее складывается единая культура. Но это случается не сразу; в европейской культуре культ женщины рождается только в средневековье.