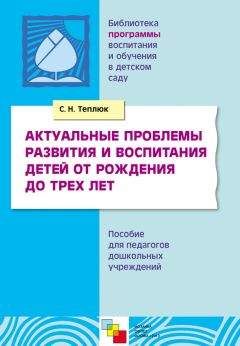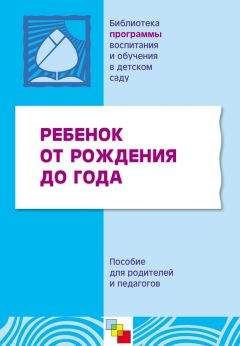Евгений Елизаров - Великая гендерная эволюция: мужчина и женщина в европейской культуре
Нередко человек отдается в кабалу вполне добровольно. Примером может служить библейская история Иакова и Рахили[142]. «Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою. Лаван сказал [ему]: лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого; живи у меня. И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. <…> Утром же оказалось, что это Лия. И [Иаков] сказал Лавану: что это сделал ты со мною? не за Рахиль ли я служил у тебя? зачем ты обманул меня? Лаван сказал: в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей; окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других»[143].
Тот факт, что в долговой кабале, как правило, оказываются свои же соседи, препятствует ничем не сдерживаемому произволу господина. Недаром историческое предание гласит, что законодательством Солона, одного из «семи мудрецов», в Греции запрещается порабощение соотечественников. Правда, это законодательство возникает в ходе широкой военно-политической экспансии. Уже к его времени, по образному выражению Платона, греки, подобно лягушкам, сидящим вокруг болота, обсядут все Средиземное море[144], и отовсюду пойдет поток иноплеменных рабов, с которыми уже можно будет не церемониться. Этот поток станет подобен половодью, и у социолога того времени будет создаваться впечатление, что численность рабов чуть ли не в десятки раз превосходит численность свободных. Так, греческий автор Афиней (II век), ссылаясь на писателя III века. до н. э. Ктесикла, сообщает, что, согласно переписи 309 до н. э., в Афинах было 400 тысяч рабов на 21 тысячу граждан. Еще большие значения приводятся для Эгины (470 тыс.) и Коринфа 460). Современные же оценки снижают эти показатели до 25–43 % от общей массы населения[145]. (Правда, и данные Афинея о свободных гражданах необходимо умножать как минимум на пять, ибо сюда, по нормам того времени, не входят ни женщины, ни дети, ни иностранцы.)
Долговое рабство имеет жесткие ограничения. Оно регулируется общинным правом, общинной моралью, наконец, физической защитой собственной семьи невольника. Ведь, в конце концов, только ее глава имеет всю полноту прав по отношению к своему домочадцу. Включая самое фундаментальное – право на его жизнь. Меж тем неограниченная эксплуатация – это форма посягательства на нее, а следовательно, и на личный суверенитет главы чужого рода. Последнее же всегда чревато (не только репутационными) потерями, и уже поэтому не имеет ни экономического, ни какого другого смысла.
Словом, долговое и экзогенное классическое рабство, которое появляется в Греции и Риме, имеют между собой глубокие качественные отличия. Одним из них является то, что рабы-военнопленные практически никогда не были домашними, то есть принадлежащими главе той или иной семьи, – это всегда государственная собственность. Рабовладение в условиях полиса было только коллективным. Впрочем, в античности практически любая собственность была общинной, и частное владение чем-либо каждый раз требовало особого подтверждения со стороны государства. «Архонт сейчас же по вступлении в должность, – пишет Аристотель, характеризуя государственное устройство Афин, – первым делом объявляет через глашатая, что всем предоставляется владеть имуществом, какое каждый имел до вступления его в должность, и сохранять его до конца его управления»[146]. Правда, государственный контроль, как правило, формален, в силу чего распоряжение имуществом принадлежало все же частному лицу, но надзор за способными к бунту рабами эпохи классического рабовладения всегда оставался общим делом полиса. Патриархальный же раб (как дети, женщины и вещи), растворяясь в едином понятии семьи, пусть и по своему, но все же (как женщины и дети) никогда не уравнивался с вещью. Он оставался личностью, подвластной многим нравственным обязательствам, и сохранял за собой пусть и урезанные, но все же какие-то права.
Впрочем, и в древнейшие времена существовали рабы-иноплеменники. Однако растворение их в общей массе тех, кем становились несостоятельные соседи, уравнивало правовое положение апатридов с ними. В целом же положение домашних рабов мало чем отличается от положения собственных детей хозяина дома. Они выполняют ту же работу, носят такую же одежду, за одним столом едят одну и ту же пищу. Нередко над ними совершаются те же обряды: «И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова; и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог»[147]. Рабов даже лечат: «Если лекарь сделал человеку тяжелую операцию бронзовым ножом и спас человека или же он вскрыл бельмо (?) у человека бронзовым ножом и спас глаз человеку, то он может получить 10 сиклей серебра. Если это сын мушкенума, то лекарь может получить 5 сиклей серебра. Если это раб человека, то хозяин раба должен дать лекарю 2 сикля серебра»[148]. «Если лекарь срастил сломанную кость у человека или же вылечил больной сустав, то больной должен заплатить лекарю 5 сиклей серебра. Если это сын мушкенума, то он должен заплатить 3 сикля серебра. Если это раб человека, то хозяин раба должен заплатить лекарю 2 сикля серебра»[149]. Между тем никакие законы не пишутся «про запас», и само существование подобных норм права свидетельствует о том, что за ними стоит вполне обычная практика социума.
Таким образом, говоря о рабах как о членах патриархального «дома», нужно соблюдать известную осторожность. Далеко не все они, как контингент греческих серебряных рудников и римских латифундий, подвергаются нещадной эксплуатации, многие, пусть и лишаясь личной свободы, живут практически одной жизнью с домочадцами. Это и те, кто работает наравне с самим хозяином и его сыновьями, это и управители хозяйств, и домашние учителя, и, разумеется, домашняя прислуга. Кстати в Риме численность домашнего персонала нередко составляла несколько сот человек. Так, Тацит говорит о четырехстах осужденных на смерть за то, что ни один из них не предотвратил убийство главы дома, римского городского префекта Луция Педания[150]. Между тем единственным их занятием в этом доме было обустройство быта своего хозяина (и, может быть, в большей степени – своего собственного, ибо накормить, одеть, обстирать и т. д. такое количество требует немалых трудов). Едва ли они рассматриваются как разновидность имущества; тесное соприкосновение с хозяевами не может не очеловечивать отношения. Поэтому не случайна широкая практика их освобождения. И только на тех, кто работает за пределами господского жилища, смотрят как на вещь.
2.7. Внутрисемейные отношения
Таким образом, мы видим: семья, несмотря ни на что, образует собой собрание вполне терпимых по отношению друг к другу людей. Не будем излишне демонизировать отношения домашних рабов и рабовладельцев, ибо при такой численности, какая встречается в домах римских патрициев, их обязанности не могли быть слишком обременительными. Умолчим о рудниках и латифундиях, с жизнью которых практически не сталкиваются жители полиса, но под одной крышей гнет в основном носит моральный характер. Во всяком случае, наивное представление об абсолютной власти одного и полном бесправии остальных не выдерживает критики. Разумеется, (как, собственно, и в любом людском собрании) в едином корпусе древней семьи существует свое противостояние, своя вражда, свои интересы, интриги и прочее, но все это проявляется не в противостоянии социальных полюсов. Их порождает не властная вертикаль патриархального «дома», которая, конечно же, складывается в этой ячейке социума, как она существует и сегодня, ибо и сегодня мы отделяем главу семьи от всех остальных, понимая, что у них разные не только обязанности, но и права, и инструментарий их реализации. Исторические памятники свидетельствуют о том, что все конфликты развиваются лишь «по горизонтали»; по преимуществу в них вовлекаются те, кто занимает близкие иерархические позиции. Другими словами, враждуют не рабы с домовладыкой, не дети с родителями и не жены с мужьями (хотя, конечно, присутствует и все это), но рабы, дети и жены в своих группах.
Мы можем судить об этом уже по самому знаменитому эпосу. В «Илиаде» только один раз упоминается протест маленького человека против царей и героев, но и тот не получает никакого развития по причине своей незначительности для судеб противоборствующих сил[151]. Примечателен даже смех, который вызывает и этот протест, и его пресечение у собравшихся:
Ныне ж герой Лаэртид совершил знаменитейший подвиг:
Ныне ругателя буйного он обуздал велеречье![152]
Враждуют боги с богами и герои с героями, и есть основание думать, что в этом отражается общий взгляд на вещи, сам менталитет времени. Собственно, тема «маленького человека» вообще появляется в европейской культуре только в XVIII веке. До этого жизнь социума, как в современном спорте, складывается из взаимоотношений относительно равных, из стремлений каждого возвыситься над другими в своей «весовой категории». Все то, что находится внизу под ногами или высоко над головой, редко замечается человеком.