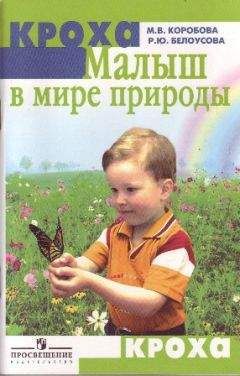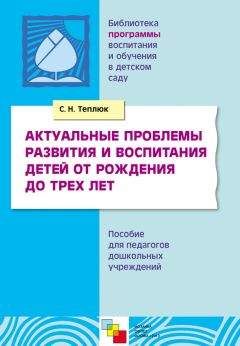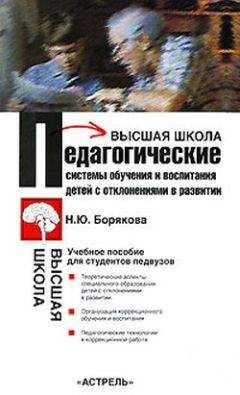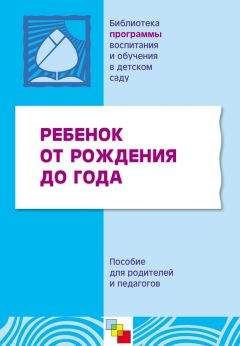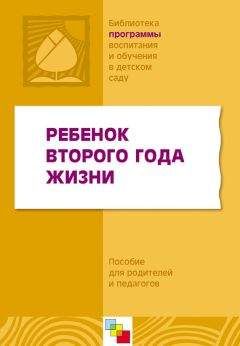Евгений Елизаров - Великая гендерная эволюция: мужчина и женщина в европейской культуре
Наличие обязанностей при отсутствии всяких прав по существу взрывает положение вещей. В меняющейся культурной традиции еще не забывший о прошлом величии глава семьи превращается в простой источник средств существования женщины и технического исполнителя затруднительных для нее функций. (Речь не идет о сексуальной сфере, ибо и половое чувство мужчины постепенно превращается в такое же техническое средство поощрения к исполнению ее желаний и наказания за отсутствие должного энтузиазма в этом.) Словом, современные реалии брака не могут не деформировать социально-психологический тип мужчины, его отношение к семье, детям.
Известно, что он ощущает острую потребность в романтизации женщины, в его крови совершать ради нее безумства, приносить дары, служить ей. Но ничто из этого не может служить основанием для ранжирования полов. Гармония отношений между ними может существовать только там, где служение является свободным даром сильного, поведением рыцаря. Между тем одностороннее воспитание подрастающих поколений приводит к тому, что женщина начинает видеть дар только там, где мужские приношения ей принимают какие-то экзотические формы или превышают «стандартные» размеры. Все обычное в отношениях между ними ощущается ею как должное, как некая дань, как регулярный налог, как обязательная цена за ее «неземную» красоту и столь же «эфирную» природу.
Такое отношение не может не передаваться мужчине: и в его подсознании первичное возвышающее его же самого представление о долге перед женщиной постепенно трансформируется в оскорбительное представление о чем-то низменном и вульгарном – о плате за то, что может быть получено от нее. Поэтому нет ничего удивительного, что там, где снижается охранительное действие культуры, образ сошедшего ли в дольний мир ангела, сказочной ли принцессы, которой можно отдать свою жизнь, со временем блекнет и сменяется абстракцией обыкновенного ширпотреба, товара, становящегося доступным к использованию тотчас же по внесению в кассу установленного тарифа. Здесь, в отличие от классической трагедии, гибнут не только главные герои, – рушится все. Женщина, не желающая замечать в рутинном служении мужчины ничего рыцарственного, разочаровывается в романтике любви. Но и в мужчине, вдруг сознающем, что его избранница привыкает видеть в нем простого данника, достоинства которого могут быть легко превзойдены (материальными ли возможностями, особенностями ли темперамента кого-то другого), происходят не менее драматичные перемены. Сходящие на землю ангелы видятся лишь тем, кто искренне верует в них, сказочные принцессы существуют только в окружении таких же сказочных рыцарей, а значит, там, где исчезают одни, превращаются в обыкновенных судомоек и другие.
И, вынося привычные подносы,
Глубоко затаив тоску и гнев,
Они уже не задают вопросов
И только в горничных играют королев[588].
В итоге в «на небесах» заключавшемся союзе очень скоро начинают проступать черты какой-то нечистоплотной сделки, где одной стороне видится не вполне кондиционный товар, другой – оплата неполновесной, а то и фальшивой, монетой.
Таким образом, не в последнюю очередь именно сегодняшнее воспитание полов приводит к тому, что никого ни к чему не обязывающие фольклорные откровения, вроде того, что «хорошую вещь браком не назовут», «все мужики сволочи», «все дамы – «блондинки» и т. п., для все бóльших и бóльших масс разочарованных становятся чем-то нормативным. Нередко – обязывающим к ответному действию императивом. Таким образом, утрата мужчиной былых позиций рождает в нем совершенно иное отношение к противоположному полу, а вместе с ним и к браку. На месте освященного долгой традицией института появляется простое гражданское сожительство. Все бóльшее число мужчин склоняется к нему, ибо только такая форма семейного строительства сохраняет за «сильным» полом хотя бы какие-то права, с которыми приходится немедленно расставаться в случае официального брака. Или, по меньшей мере, оно сглаживает ощущение собственной второсортности, прокламируемого всем: строем воспитания, устоями современного права, вектором развития правоприменительной практики, неравенства с женщиной.
Да, эта форма брачного союза берет свое начало еще в наложничестве, конкубинате, и ее унизительность ощущалась женщиной во все времена. Естественно, что не может быть исключением и наше, поэтому вполне понятно отношение женщины к простому сожительству. Впрочем, и в глазах общества «жена» и «сожительница» содержат в себе не столько социальные, сколько моральные отличия. Не одна гарантия материальных обеспечений (хотя, конечно, и это тоже) стремит женщину в загс. Но в то же время не бремя ответственности (хотя, конечно, верно и это) отвращает от него мужчину. Все гораздо сложнее, все гораздо серьезней. Неравенство полов должно иметь место, каждый должен обладать какими-то своими прерогативами. Но там, где права одного отнимаются без всяких компенсаций, права же другого возводятся в абсолют, никакая гармония невозможна.
Впрочем, заслуживает тревоги не только отношение к браку, но и отношение мужчины к женщине и женщины к мужчине.
9.5.2. Достоверность культурного образа
Межгендерная коммуникация принципиально неотделима от межпоколенной, и деформация первой не может не порождать конфликты во второй, в свою очередь, нарушенная связь поколений препятствует нормальному формированию гендера.
Здесь уже говорилось, что в природе межполовая коммуникация не существует как что-то самостоятельное и в действительности является лишь структурной частью единого потока межпоколенной преемственности, наследования организмом видовой информации. В человеческом же обществе она обретает относительную автономность, поскольку сексуальная активность выделяется в самостоятельный вид деятельности, не связанной с детопроизводством. Именно поэтому она превращается в гендерную, обретает социально знаковые формы. Другими словами, формы, значимые для сохранения не поведенческих стереотипов биологического вида, но ключевых характеристик социума, динамических стереотипов его культуры. В человеческом обществе этот относительно самостоятельный сегмент поведенческой активности носит принципиально внебиологический характер.
Между тем в анализе межгендерной коммуникации центральное (если не сказать исключительное) место чаще всего отводится системе знаков, обставляющих церемониал схождения и соития полов, а это существенно сужает предмет, делает его родом окультуренной кальки с межполовой коммуникации животных, образцом которой выступает брачный ритуал. Вот один из типичных примеров – вывод, который делается на основе анализа конкретного (его существо не требует пояснений) медиапосыла: «Внешность и «мир вещей» в данном медиатексте имеют значение лишь постольку, поскольку они способствуют успеху читательницы-подростка в «мире людей», а именно – у представителей противоположного пола: девушке необходимо быть flirty (флиртующей), sexy (сексуальной), hot («горячей»), чтобы привлечь к себе их внимание и иметь шанс на развитие близких межличностных отношений»[589]. Вот (вспомним «военные действия» Марьи Гавриловны) другой: «…коммуникативная тактика женщины-адресанта должна быть еще более «тонкой» и продуманной, чтобы комплимент был принят собеседником» и коммуникативная цель была достигнута»[590].
Нисколько не подвергая сомнению справедливость подобных заключений, заметим все же, что речь в них идет лишь о специфическом, очень узком аспекте единого содержания общения полов, но вовсе не о предмете в целом. В действительности понятие намного шире, поскольку межгендерный коммуникационный посыл может быть адресован – и адресуется – не только представителю иного пола (как потенциальному сексуальному или брачному партнеру), но и совсем другому поколению, представленному, в частности, и своим полом, которому еще только предстоит строить отношения с противоположным. Женщина воспитывает не только мужчину, но и будущую женщину, мужчина – будущего мужчину, и это тоже межгендерная коммуникация. Вовсе не исключено, что именно новое поколение в лице обоих полов и есть ключевой получатель основного массива гендерно ориентированной информации. Во всяком случае, это справедливо в контексте развития института семьи.
Основной посыл межгендерного общения содержит в себе не то, что делает его «sexy», то есть привлекательным для противоположного пола, но прежде всего ценности, которые создают режим наибольшего благоприятствования развитию каждого, ибо и мужчина и женщина являются носителями особого сегмента интегральной культуры социума. Или, напротив, в чем-то своем (неравенство полов обязано сохраняться) создают преимущества какому-то одному. В конечном счете все зависит от сложившихся обычаев и традиций, и мы знаем, что в разные времена и в разных культурах развиваются совершенно несхожие модели гендерных взаимодействий. Цитированное выше письмо Иллариона из Александрии, в котором жене наказывается бросить ребенка, если родится девочка, говорит, в частности, об этом. Лишь во вторую (если вообще не в последнюю) очередь речь может идти о тех сигналах, что способствуют бесконфликтному сближению мужчины и женщины в едином ритуале продолжения жизни. Так, например, свойственный европейской традиции общий императив особого отношения к женщине: