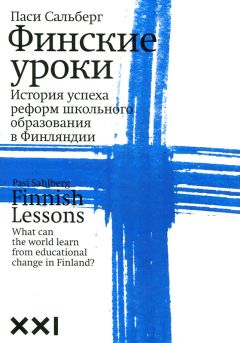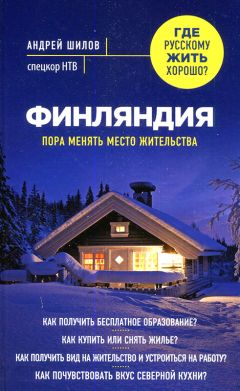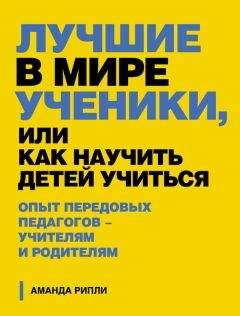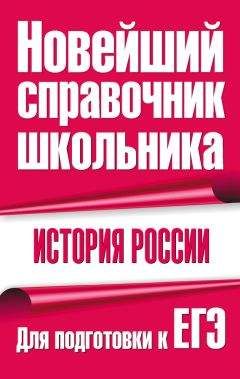Марина Могильнер - Изобретение империи: языки и практики
Иллюстрация 5. Фрагмент росписи восточной стены главного зала Грановитой палаты с изображением первых русских князей – Рюрика, Игоря и Святослава
Окружавшие Грановитую палату и царское место внешние цветовые иерархии, как представляется, также апеллировали к идее солнечного цвета. В XVII веке тона, ассоциирующиеся с солнечным светом, то есть золотой (желтый) и красный, вероятно, воспринимались как царские цвета. Они доминировали как в декоре, так и в названиях сооружений Московского Кремля, связанных с царской властью (Золотое крыльцо Теремного дворца, несохранившаяся Золотая решетка на парапете Боярской площадки, Красное крыльцо Грановитой палаты). Примечательно, что в ряде источников личного происхождения сама Грановитая палата названа Золотой [145] . При этом важно отметить, что зачастую значение имел не столько сам материал или даже цвет, сколько его семантическое осмысление. Так, упоминавшаяся Золотая решетка была на самом деле сооружена из кованого железа (по преданию – из медных денег, изъятых после Медного бунта 1662 года) [146] , что отнюдь не мешало ее трактовке в категориях превосходного порядка. Применительно к периоду конца XVII века говорить о приоритете одного из цветов достаточно сложно, характерным являлось скорее их сочетание. Возможно, на определенном уровне эти цвета взаимозаменяли друг друга [147] .
Таким образом, суммируя все вышесказанное, можно отметить, что для формирования церемониального пространства Грановитой палаты существенное значение имело ориентирование по сторонам света, находившееся при этом в особых семантических взаимоотношениях с рядом пространственных оппозиций («право – лево», «верх – низ», «центр – периферия»). Сама организация пространства здесь предполагала существование и взаимодействие цветовых и эмблематических иерархий. Очевидна также определенная взаимозависимость способов организации внутреннего и внешнего пространства. Именно так выглядели некоторые основные категории пространства власти в контексте тронного зала конца XVII века. Насколько востребованными оказались эти принципы в новую эпоху? Явился ли переход от Московского царства к Российской империи периодом кардинального изменения существующих установок?
Топография власти начала империи – по-настоящему увлекательный и сложный сюжет. Причиной тому – личность первого русского императора и особенно его действия первой половины царствования. До нас дошло всего два описания появления самого монарха на троне [148] . При этом одно из них, принадлежащее секретарю шведского посольства Э. Кемпферу, относится еще к периоду совместного правления Петра и Ивана и рисует будущего первого российского императора и-летним мальчиком. Прижизненные русские изображения Петра I на троне также весьма малочисленны [149] и не нагружены какими бы то ни было пространственными коннотациями, за исключением достаточно четкой репрезентации тронного места, неизменно состоящего из помоста, кресла и балдахина [150] . К тому же, по крайней мере, до середины 1710-х годов Петр I активно использовал в представительских целях «торжественные» залы во дворцах своих подданных: дом А.Д. Меншикова в подмосковном селе Семеновское, Лефортовский (Петровский) (Д. Аксамитов, 1697–1699) дворец на Яузе, Меншиковский дворец в Санкт-Петербурге (Д.М. Фонтана, Г.И. Шедель, 1710–1727) и административные помещения разного рода (Аудиенц-камора в Здании «мазанковых коллегий» на Троицкой площади, Почтовый двор) [151] .
Все это создавало на первый взгляд достаточно простую картину: Петр I был «чужд церемоний», любил маленькие комнаты с низкими потолками, а его аудиенции представляли собой всего лишь «простые посещения» [152] . Вместе с тем такое откровенное нежелание монарха в это время дать более или менее четкое определение представительскому пространству, а также стремление по мере возможности уклоняться от официального церемониала как такового является, вероятно, свидетельством определенного переходного периода. Возможно, речь идет даже о понимании сложности выработки концепта подобного рода.
Однако такое нарочито ломающее стереотипы поведение Петра I в отношении формального ритуала не стоит абсолютизировать, особенно применительно к последнему десятилетию его царствования. Прекрасным примером тому могут стать действия монарха во время посещения Парижа в 1716 году. В одном из интереснейших источников этого периода – «Журнале путешествия во Францию и пребывания в Париже Петра Великого в 1716 г.» [153] – Петр I предстает в совершенно ином свете.
Согласно этому документу для приема русского монарха в «старом Лувре» были приготовлены великолепные «покои». Прибыв во дворец, Петр I оценил гостеприимство («целые полчаса ходил вокруг горницы и удивлялся великолепию придворной мебели» [154] ), однако «решительно отказался» от предложенных апартаментов и «попросил маршала Тесе проводить его в Лездигиерской дом, неподалеку от Арсенала, который также был для него приготовлен». Несмотря на уговоры («маршал сколько возможно упрашивал его… и говорил, что Король [Людовик XV] будет очень доволен, если он останется в Лувре хотя три дня»), Петр в тот же вечер покинул Лувр. Между прочим, во время этой сцены Петр I не преминул упомянуть о своей любви к маленьким помещениям, что не помешало ему настаивать на переезде в приготовленный для него дом [155] .
Столь, казалось бы, неожиданное и неудобное для французской стороны поведение вполне разъяснилось на следующее утро, когда царь на правах хозяина предоставленного ему дома начал принимать высших чинов Франции. Посещение прибывшего к русскому царю принца-регента представляло собой целый церемониал, которому Петр I оказался совсем не чужд:...Его Королевское Высочество [Регент Филипп Орлеанский] был встречен Его Царским Величеством [Петром I] в дверях прихожей; оттуда пошли они в его комнату, где приготовлено было двое кресел: Царь сел по правую сторону, а Герцога Орлеанского попросил сесть полевую в двух шагах от него (здесь и далее курсив мой. – Авт.)… Конференция продолжалась полчаса, потом они вышли и приметно было, что Царь нарочно шел елевой стороны, уступив правую Герцогу Орлеанскому. Его Королевское Высочество, видя себя с правой стороны, хотел было занять левую, но царь до того не допустил и шел с ним таким образом до прихожей; четверо чиновников, которые были при встрече, проводили его до самой кареты [156] .
Перед нами ситуация, когда Петр I демонстрирует не только понимание ритуала как такового, но и осознание важности подобного церемониала. Царь, вероятно, совершенно осмысленно уклоняется от предлагаемого ему статуса почетного гостя в Лувре, стремясь создать свое, пусть и временно, но исключительно ему принадлежащее пространство. Посредством простой, но эффективной манипуляции он меняет ход событий: выстроенная таким образом дистанция между русским царем и пространством французской королевской власти задает иные нормы поведения (например, свита регента не смеет въехать во двор предоставленного царю дома). Таким образом, Петр I, став временным хозяином дома, по сути становится хозяином положения.
Обращает на себя внимание и тот факт, что Петр I, попадая в сферу тотальной ритуализации, ведет себя вполне адекватно, то есть демонстрирует умение «считывать» некоторые общие положения поведенческого кода. Например, «право» и «лево» появляются в тексте еще несколько раз – при описании посещения короля и графини дю Барри [157] . Впрочем, очевидно, что использовать эти вполне универсальные для репрезентации монаршей власти категории Петр научился еще в детстве. Об этом свидетельствует, например, сохранившийся двойной серебряный трон царей Ивана и Петра, созданный в мастерских Московского Кремля в начале 1680-х годов для символического оформления столь необычной композиции власти. Он состоял из двух сидений, правое из которых предназначалось для старшего и особенно важного для поддержания статуса царевны Софьи Ивана, а левое – для юного Петра [158] .
Очевидно также и то, что со второй половины царствования (с конца 1710-х годов) позиция Петра в отношении церемониального пространства меняется, что, возможно, не в последнюю очередь было связано с его второй масштабной поездкой в Европу. Именно в 1710-х годах он все чаще начинает использовать для представительских целей собственные дворцы («Свадебная зала» 2-го Зимнего дворца Петра I [ «Зимний дом» арх. Д. Трезини, 1711] [159] , Большая зала 3-го Зимнего дворца Петра I [ «Новый Зимний дом» арх. Г.-И. Маттарнови, 1716–1727] в Санкт-Петербурге, а также Грановитая палата Московского Кремля, задействованная в коронационных торжествах 1724 года).
Более того, именно в это время монарх активнее, чем когда-либо, начинает обзаводиться собственными резиденциями. Помимо возведения нового (третьего по счету и, несомненно, самого большого и представительного) Зимнего дворца на набережной Невы, в Летнем саду специально для празднования свадьбы цесаревны Анны Петровны и голштинского герцога начинает строиться «Зала для славных торжеств». Петровский дворец появляется и на территории крепости Шлиссельбург (1722, Д. Трезини). По мнению ряда исследователей, это сооружение «не уступало дворцовым постройкам столичной летней резиденции», поскольку сам дворец, главное место в котором занимал большой зал, должен был стать «ареной проведения торжеств» [160] . У императора были серьезные виды и на Москву: в конце царствования он намеревался осуществить масштабный проект перестройки памятного ему с детства села Преображенского, создав на Яузе целый дворцовый ансамбль. И хотя из одобренного Петром I проекта П. Еропкина почти ничего не было осуществлено [161] , стремление монарха представляется знаковым.