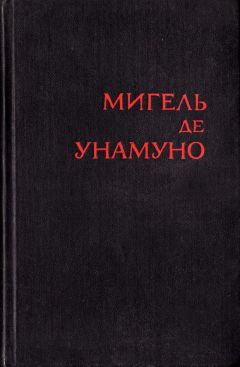Мигель Унамуно - О трагическом чувстве жизни
Когда отцу Гиацинту было еще шестьдесят четыре года и он еще не пережил смерть своей жены, своей матери, он написал Ренану, что твердо верит в «загробную жизнь и конечное спасение души человеческой» (III, 371). Он полагал, что «Ренан, при всей его интеллектуальной мощи, не сумел преодолеть сомнений» (III, 374). Ну а как же насчет его воли? «Ренан, - пишет он, - сомневался решительно во всем и, что в мои годы кажется особенно прискорбным, не умер от своих сомнений, а, напротив, жил ими; он не страдал, а забавлялся ими» (III, 375). С последним вряд ли можно согласиться. Но нет сомнений в том, что сам он, святой отец, агонизировал от своих сомнений. В то время как Ренан знал, что истина в глубинной основе своей печальна.
В свои пятьдесят восемь лет он изобразил себя в трагическом образе, сливающемся с образом Ниагары: «Душа моя - водопад, который низвергается с горных отрогов бурным потоком лет, а быть может, столетий, и чем круче склон, чем стремительнее течение, тем ближе развязка, столь же неотвратимая, сколь и ужасная: смерть и бездна, что лежит за ее порогом; и так будет до тех пор, пока творение Божие не обретет свое спокойное течение, войдя в иное русло, и свою последнюю пристань в лоне своего Бога. Вечное возрождение... Нам с Эмилией уже недолго ждать...» (II, 251). Ни Руссо, ни Шатобриан, или, вернее, Рене, ни Сенанкур{407}, то есть Оберман, не нашли бы красок, более трагических.
Он был воистину человек, он был воистину отец, он был воистину христианин в агонии христианства!
Заключение
Вот мы и добрались до конца, ибо все на этом свете, а может, и на том тоже, имеет свой конец. Но является ли то, что я сейчас пишу, в самом деле заключением? Смотря что понимать под заключением. Если мы будем понимать под этим просто окончание, то мое заключение это, конечно, окончание, хотя вместе с тем и начало; если же речь будет идти о заключении в логическом смысле этого слова, о логическом выводе, то это мое заключение таковым не является.
Я пишу это свое заключение вдали от моей родины, Испании, в то время, как ее терзает самая унизительная и самая бессмысленная из тираний - тирания выжившей из ума военщины; я пишу его, будучи оторван от родного очага, от семьи, от моих восьмерых детей - внуков у меня пока что нет - и в своей собственной душе я переживаю гражданскую войну, а одновременно с нею и войну религиозную. Агония моей умирающей родины разбудила в моей душе агонию христианства. И теперь я чувствую, как в душе моей политика возгоняется в религию, и в то же самое время религия возгоняется в политику. Я переживаю в своей душе агонию испанского Христа, Христа агонизирующего. И я чувствую в себе агонию Европы, агонию цивилизации, которую мы называем христианской, цивилизации греколатинской, или западной. Агония христианства и агония западной цивилизации - это все одна и та же агония, а не две разные. Христианство убивает западную цивилизацию и одновременно западная цивилизация убивает христианство. Так они и живут, убивая друг друга.
Многие верят в то, что сегодня рождается какая-то новая религия, религия иудейского и вместе с тем татарского происхождения: большевизм - религия, пророками которой были Карл Маркс и Достоевский. Но только разве Достоевский не хрисгианин? И разве Братья Карамазовы - не Евангелие?
А между тем ходят толки о том, что та самая Франция, где я пишу эти строки, чей хлеб я теперь ем и чью воду, вобравшую в себя соли костей ее мертвецов, я пью, обезлюдела, что ее заполонили иностранцы, а все потому что в людях умерла жажда материнства и отцовства, они больше уже не верят в воскресение плоти. Но может быть они верят в бессмертие души, в славу, в историю? Трагическая агония мировой войны очень многим помогла исцелиться от веры в славу.
Здесь неподалеку, в двух шагах от моею жилища, где я пишу эти строки, под Аркой Звезды - аркой имперского триумфа! - юрит вечный огонь на могиле неизвестного солдата, солдата, имя которого уже не войдет в историю. Впрочем, разве не является именем уже само это «неизвестный» Разве «неизвестный» значит для нас меньше, чем Наполеон Бонапарт? К этой могиле приходят помолиться отцы и матери погибших, думая, что этот неизвестный солдат мог быть и их собственным сыном; сюда приходят помолиться отцы и матери христиане, верующие в воскресение плоти. И вполне возможно, что сюда приходят помолиться отцы и матери неверующие и даже атеисты. И вот, на могиле этой воскресает христианство.
Бедный мой неизвестный солдат, он мог верить в Христа и в воскресение плоти, мог быть верующим или же рационалистом, мог верить в бессмертие души, в историю, а мог и не верить, - но теперь он спит и видит свой последний сон, преданный скорее камню, чем земле, погребенный под огромными каменными плитами тех врат, что не открываются и не закрываются, на которых высечены буквы, запечатлевающие имена, прославившие Империю. Слава Империи? А что это такое?
Несколько дней назад я случайно стал свидетелем одной патриотической церемонии. Я имею в виду торжественную процессию граждан к могиле неизвестного солдата. Приблизившись к его праху, не погребенному, не преданному земле, а замурованному в камень, президент Республики богини Франции вместе со своим Правительством и несколькими генералами в отставке, переодетыми в штатское, надежно схоронился от истории за камнями с высеченной на них надписью, повествующей о кровавой славе Империи. А бедный мой неизвестный солдат, он был, наверное, мальчиком с сердцем и головой, битком набитыми историей, а может быть, совсем наоборот, он терпеть не мог историю.
После того, как патриотическая церемония закончилась, и первое лицо богини Франции вместе с сопровождающими его лицами разошлись по домам; после того, как смолкли крикливые голоса националистов и коммунистов, митинговавших допоздна, какая-то бедная мать - мать, верующая в непорочное материнство Девы Марии, - безмолвно и в полном одиночестве приблизилась к могиле своего неизвестного сына и стала молиться: «Да приидет царствие Твое! », то есть да приидет Царство Божие, то самое, что не от мира сего. «Благодатная Мария, Господь с Тобою, - продолжала она, - благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоею, Иисус. Пресвятая Дева Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, на сей час и в час нашей смерти. Аминь!» Никогда и никто не молился так перед Акрополем! Она молилась и устами этой бедной матери молилась вся христианская Франция. А бедный неизвестный сын - кто знает? - он быть может слышал эту молитву, быть может, умирая, он мечтал о том, что воскреснет, и там, на небе, небе своей родины, своей милой Франции, он найдет свой отчий дом, мечтал о том, чтобы века веков вечной жизни были бы согреты поцелуями его матери, освященными поцелуем света Богоматери.
На могиле неизвестного француза - а в неизвестном французе гораздо больше святого, чем в среднем французе - я почувствовал агонию христианства во Франции.
Бывают такие минуты, когда вдруг ясно сознаешь, что Европа, цивилизованный мир, вступает в новое тысячелетие; и подобно первым христианам, истинным евангелистам, верившим в близкий конец мира, начинаешь верить в то, что близок уже конец Европы, близок конец цивилизованного мира, конец цивилизации. И некоторые люди преувеличенно трагическим тоном говорят. «Isto da vontade de morrer», «От этого просто хочется умереть».
И поговаривают о создании организации Объединенных Наций Соединенных Штатов Цивилизации с резиденцией в Женеве, под сенью Кальвина и Иоганна Якоби. А также и Амьеля, который с грустной усмешкой глядит - как вы думаете, откуда? - на эти художества политиков. И грустно усмехается тень Вильсона{408}, еще одного христианского политика; вот вам еще одно трагическое противоречие, противоречие между делом плоти и делом духа. Вильсон, мистик мира, - противоречие не менее глубокое, чем Мольтке старший{409}, мистик войны.
Ураган безумия, сметающий цивилизацию на значительной части Европы, представляет собой тот род безумия, который медики назвали бы специфическим. Все эти агитаторы, диктаторы, эти политики, которые ведут за собою народы, - все они в большинстве своем страдают прогрессивным параличом. Это - не что иное, как самоубийство плоти.
А кое-кто уже уверовал в тайну беззакония.
Вспомним еще раз о давней традиции, отождествляющей библейский грех наших пращуров, вкусивших от плода древа познания добра и зла, с грехом плоти, которая хочет воскреснуть. Но потом плоть уже не заботилась о себе, главным ее побуждением стала уже не жажда материнства и отцовства, а само по себе наслаждение, голое сладострастие и больше ничего. Источник жизни был отравлен, а вместе с источником жизни был отравлен и источник познания.
В одном из евангелий Эллады, в «Трудах и днях» Гесиода, тексте гораздо более религиозном, чем тексты Гомера, говорится, что когда царит мир, когда земля приносит обильную пищу, «горные дубы желуди с веток дают и пчелиные соты из дупел, и овцы приносят ягнят», тогда «жены детей им рожают, наружностью схожих с отцами» - έοιχότα τέχνα γονεύσιν (стихи 232- 235). Это не означает, что сыновья законные, скорее всего он просто хочет сказать, что они хороши собою, ладно сработаны (см.: Hesiode, Les travaux et les jours. Edition novelle par Paul Mazon, Parts, Hachette et Compagnie, 1914; обратите внимание на стих 235, с. 81). Ладно сработаны, а стало быть - здоровы.