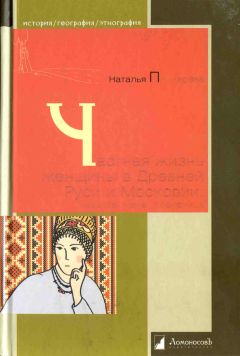Рене Жирар - Насилие и священное
Мы возьмем примеры из произведения, сами достоинства которого придадут больше веса нашей критике, — из «Словаря индоевропейских социальных терминов» Эмиля Бенвениста. Приложение эпитета hieros, «священный», к орудиям насилия и убийства достаточно систематично, чтобы привлечь внимание исследователей и заставить иногда переводить этот термин словами «сильный», «живой», «возбужденный» и т. д. Греческое hieros происходит от ведического прилагательного isirah, которое обычно переводят словами «жизненная сила». Сам этот перевод является промежуточным, скрывающим сочетание самого пагубного и самого благого внутри одной лексемы. К такого рода компромиссам часто прибегают, чтобы затушевать проблему, которую составляют для современной мысли термины, обозначающие священное в самых разных языках.
Бенвенист утверждает, что hieros никак не связан с насилием и что это слово всегда надо переводить как «священный», не упоминая ни словом, что даже во французском слово sacre, «священный», иногда сохраняет определенную двусмысленность, унаследованную, возможно, от латинского sacer. По мнению лингвиста, не надо придавать значения тому факту, что hieros часто сочетается со словами, подразумевающими насилие. Всякий раз Бенвенисту кажется, что употребление этого слова мотивировано не тем словом, которое оно непосредственно определяет, а соседством какого-нибудь бога, наличием в тексте специфически религиозных терминов, которые он считает совершенно не связанными с насилием.
Чтобы удалить из обозначений священного дуализм, который ему кажется невероятным и недопустимым, Бенвенист обращается к двум основным процедурам. Только что мы видели первую, состоящую в том, чтобы полностью устранить тот из двух «полюсов», который ослаб в результате исторической эволюции. В тех редких случаях, когда культурная эволюция не посягнула на дуализм и оба противоположных понятия сохранили одинаковую силу, он решительно заявляет, что перед нами два разных слева, случайно совпавших в одной лексеме. Как раз второе решение применяется в случае существительного kratos и его деривата, прилагательного krateros. Kratos обычно переводится как «божественная сила». Krateros может прилагаться то к богу — и тогда переводится как «божественно сильный», «сверхъестественно мощный», — то, напротив, к вещам, вроде бы настолько не божественным, что лексикограф отказывает грекам в праве на собственное мнение по этому поводу:
Когда от kratos переходим к krateros, ожидается, что прилагательное обозначает тот же признак, что и существительное: поскольку kratos всегда обозначает качество героев, храбрецов или вождей, очевидно, что прилагательное krateros содержит оттенок похвалы. Тем более удивительно встретить krateros в другом употреблении, содержащем не похвалу, но насмешку и упреки. Когда Гекуба, жена Приама, обращаясь к Ахиллу, только что убившему его сына Гектора, называет его aner krateros (Ил. 24, 212) — это, разумеется, не признание его военных подвигов: П. Мазон переводит «heros brutal» («свирепый герой»). Чтобы правильно понять krateros в приложении к Аресу (Ил. 2, 515), следует рассмотреть другие эпитеты этого бога: человекоубийца (androphonos), убийца (miaiphonos), губящий людей (brotoloigos), разрушитель (aidelos) проч., ни один из которых не рисует его в благоприятном свете.
Несоответствие заходит еще дальше, проявляясь еще в одном отношении: kratos говорится только о богах и о людях, a krateros может характеризовать также животных, предметы, и его значение при этом всегда будет «суровый, жестокий, неистовый»…
У Гесиода обнаруживаются (отчасти в тех же выражениях) оба значения, выделенных для гомеровского krateros: благоприятное, когда слово сопровождает эпитет amymon, «безупречный» (Теог., 1013), неблагоприятное, когда оно определяет «убийцу мужей» (Гесиод, Щит, 98; 101), дракона (Теог., 322), Эриний…[97]
Критерием семантического деления служит «оттенок похвалы», «благоприятный свет», иначе говоря — связь с благим. Бенвенист не хочет и слышать о союзе благого и пагубного внутри священного насилия. Krateros может прилагаться как к дикому животному, рвущему добычу, так и к железному лезвию меча, к прочности панциря, к самым страшным болезням, к самым жестоким поступкам, к самым острым раздорам и конфликтам. Хочется подряд приводить все примеры, приведенные самим Бенвенистом. Перед нашими глазами снова проходит вся свита жертвенного кризиса. Таким образом, мы имеем дело с термином, превосходно раскрывающим сочетание хорошего и плохого насилия внутри священного. Поскольку оба значения слова слишком хорошо засвидетельствованы, чтобы можно было одно из них устранить, Бенвенист делает вывод, что группирующиеся вокруг kratos слова выявляют «очень любопытную семантическую ситуацию»[98]. Эти слова будто бы лишь внешне составляют однородное гнездо. Поэтому Бенвенист предлагает возвести два противоположных значения «на индоевропейском уровне… к двум разным корням, хотя и очень близким по форме (или даже совпадающим)»[99].
Единственное основание этой гипотезы — отказ признать тождество насилия и божественного, абсолютно очевидное в разных употреблениях krateros. Хорошее krateros богов и героев — не что иное, как дурное krateros монстров, эпидемий и диких зверей. Бенвенист сам приводит пример, обнаруживающий тщетность предлагаемого им деления: Ares krateros. Арес, конечно, жесток, но от этого он не делается менее божественным. Бенвенист утверждает, что здесь перед нами дурное krateros. Конечно — но тем не менее мы имеем дело с богом. Действительно, речь идет о боге, в классическом мире считающемся богом войны. А обожествление войны, возможно, не настолько бессодержательно, как нас заставляют думать мифологические клише в стихотворениях, прославляющих Августа или Людовика XIV.
С точки зрения рационалистического словаря священное предстает то как еще не обработанный смысл, то, напротив, как смысл, подвергшийся позднему смешению и запутыванию. Лексикограф вынужден думать, что его обязанность — довести различия до такой степени, когда все «двусмысленности», все «смешения», все «неопределенности» сменятся четкостью идеально однозначной семантики. Его труд — всегда лишь продолжение уже давно начатого. Уже религиозные интерпретации, как мы видели, заставляют связанные с кризисом феномены качнуться либо в одну, либо в другую сторону. Чем дальше, тем сильнее проявляется тенденция превращать два аспекта священного в самостоятельные сущности. Например, в случае латинского языка sacer сохраняет исходный дуализм, но поскольку ощущается потребность в термине, который бы выражал исключительно благой аспект, то появляется дублет sanctus. Как мы видим, тенденции современной лексикографии вписываются в рамки непрерывной мифической обработки, постепенно стирающей следы учредительного опыта и делающей все более недоступной истину о насилии.
Впрочем, некоторые авторы выбиваются из общего хора. Вот, например, замечательный комментарий, который в своей книге «Дионис» А. Жанмэр дает к слову thyias, означающему «жрицу Вакха» или вообще «вакханку» и производному от глагола thyein, о котором мы говорили выше в связи с другим дериватом, thymos.
Правдоподобная этимология позволяет связать это слово с глаголом, в значении которого есть известная неоднозначность, поскольку он, с одной стороны, значит «совершать жертвоприношение», а с другой — «неудержимо устремляться, кружиться вихрем подобно буре, водам реки, морю, кипеть подобно пролитой на землю крови», а также «кипеть яростью, гневом». Незачем разделять и дробить на две лексемы с различными корнями, как это иногда делается, эти два значения, особенно если допустить, что бурное вихревое движение соответствует одному из методов возбуждения, с помощью которых достигается характерное для вакханта состояние транса, и что жертвоприношение — посредством «спарагмоса» или иным способом — обычное сопровождение подобных практик или даже что некоторые жертвоприношения архаического типа могли служить поводом для экстатических практик со стороны участников. Точно так же и современные наблюдатели сообщают, что между конвульсиями ритуальной жертвы в момент агонии и конвульсивным возбуждением одержимого, в обоих случаях интерпретируемых как проявление божественного присутствия и воздействия, ощущается и эксплицитно выражается определенный параллелизм[100].
* * *Формальное отождествление насилия и священного, основанное на механизме жертвы отпущения, позволит нам завершить теорию жертвоприношения, основы которой мы заложили в наших первых главах. Выше мы отказались от традиционного толкования, считающего жертвоприношение приношением божеству, подарком — нередко пищевого характера — «питающим» трансцендентность.
Толкование это, конечно, мифологическое; но отсюда не следует, что оно — просто фантазия. Теперь мы можем понять, что религиозный дискурс даже в этом вопросе ближе к истине, нежели всё, чем современные исследователи пытались его заменить.