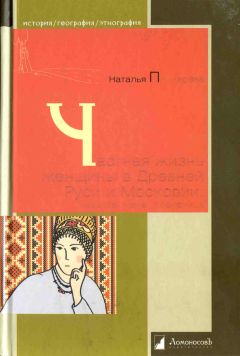Рене Жирар - Насилие и священное
Религия, даже самая грубая, улавливает истину, недоступную всем течениям нерелигиозной мысли, даже самым «пессимистическим». Она знает, что основание человеческих обществ не происходит ни само собой, ни по воле людей. Поэтому соотношение современной мысли и первобытной религии весьма отличается от того, какое мы привыкли воображать. С одной стороны, есть фундаментальное непонимание, которое касается насилия и которое мы с религиозной мыслью разделяем. С другой стороны, в религии есть элементы понимания относительно того же самого насилия, совершенно реальные и нам совершенно недоступные.
Религия действительно говорит людям, что им делать и чего не делать, чтобы избежать возврата разрушительного насилия. Когда люди пренебрегают ритуалами и преступают запреты, они буквально провоцируют трансцендентное насилие вновь спуститься в их среду, вновь стать демоническим искусителем, огромной и ничтожной ставкой, за которую они будут друг друга уничтожать, физически и духовно, вплоть до полного самоистребления, если только механизм жертвы отпущения еще раз не явится их спасти, если только, иначе говоря, самовластное насилие, сочтя «виновных» достаточно «наказанными», не соблаговолит вернуться к трансцендентности, удалиться ровно на ту дистанцию, какая нужна, чтобы надзирать над людьми извне и внушать им робкое почтение, приносящее им спасение.
Нам, легкомысленным, привилегированным, богатым баловням, по нашему невежеству может казаться, что День Гнева — иллюзия, но это страшная реальность; его справедливость действительно неумолима, его беспристрастность действительно божественна, поскольку Гнев обрушивается на всех антагонистов без разбора: он есть не что иное, как взаимность, как автоматический возврат насилия к тем, кто имел несчастье к нему прибегнуть, воображая, будто сможет им управлять. Кажется, будто благодаря большим размерам и лучшей организации западные и современные общества неподвластны закону автоматического возврата насилия. Поэтому они полагают, что такого закона нет и никогда не было. Они считают химерой и фантазией те системы мышления, для которых этот закон — страшная реальность. Системы эти, конечно, мифологичны, поскольку приписывают действие закона стоящей вне человека силе. Но сам закон абсолютно реален; автоматический возврат насилия к его отправной точке в человеческих взаимоотношениях — отнюдь не фантазия. Если мы о нем еще ничего не знаем, то дело, скорее всего, не в том, что мы окончательно освободились от этого закона, что мы его «преодолели», а в том, что его действие в современном мире надолго отложено, по неизвестным нам причинам. Именно это современная история, возможно, и начинает раскрывать.
* * *Все рассмотренные в данной работе феномены сводятся к тождеству насилия и священного — от двойной силы, пагубной и благой, крови вообще и менструальной в частности, до структуры греческой трагедии или «Тотема и табу». Это отождествление кажется фантастическим, невероятным, хочется против него протестовать, но чем внимательнее смотришь вокруг, тем яснее становится, что его объяснительная сила беспримерна. Становится видно, как вокруг него сплетается целая сеть соответствий, превращающая его в достоверность.
Ко всем уже приведенным примерам можно добавить еще один, особенно уместный в данном пункте. Почему производство металла, в частности в Африке, окружено очень строгими запретами, почему кузнецы пропитаны священным? Здесь перед нами в рамках широкой загадки священного встает отдельная загадка, решение которой сразу предлагает наша общая гипотеза.
Металл — бесценное благо; он облегчает массу занятий; он помогает общине защищаться от внешних врагов. Но у его выгод есть пугающая изнанка. Всякое оружие обоюдоостро. Оно усугубляет опасность, которую навлекают на общество внутренние раздоры. Все выигранное в хорошее время можно с лихвой потерять в плохое. Эффекты той двоякой тенденции, которая толкает людей то к сплоченности и гармонии, то к разрозненности и конфликтам, усиливаются с обретением металла.
И на благо и во вред кузнец — хозяин самовластного насилия. Именно поэтому он сакрален, в обоих смыслах слова. Он пользуется известными привилегиями, но его считают несколько зловещим существом. Контактов с ним избегают. Кузница размещается за границами общины.
Из тона, если не прямого смысла, некоторых современных комментариев следует, будто опасливое уважение к кузнецу свидетельствует об имеющемся у туземцев смутном понимании, что они посягнули на достижения, принадлежащие «высшим цивилизациям» и прежде всего, разумеется, наивысшей из всех, то есть нашей. Техника металлообработки стоит под запретом якобы не потому, что в ней, если учесть обычное поведение человека, скрыта угроза, а потому, что она предназначена для подвигов белого человека. Короче говоря, культ кузницы всегда обращен — по крайней мере, косвенно — именно на нас, как на свой предельный и единственно реальный объект. Мы узнаем в этих рассуждениях колоссальное чванство технической культуры, присущую ей «гибрис», до такой степени раздутую и усиленную долгой и таинственной безнаказанностью, что она уже себя не осознает, уже не располагает для «гибрис» даже термином.
Народы, овладевшие изготовлением металла, не имеют причин ни его бояться в собственно техническом плане, ни тем более — воздавать нам за него неявное почтение, раз они сами им овладели. Причины, пропитавшие кузницу сакральностью, идут не от нас; у нас нет на них монополии — даже зловещей и прометеевской. Угроза, нависшая над нами из-за атомных бомб и промышленного загрязнения, — всего лишь проявление (эффектное, конечно, но стоящее в общем ряду) закона, который первобытные люди постигают пусть лишь наполовину, но который считают реальным, тогда как мы считаем его фантазией. Кто бы ни играл насилием, в конце концов сам станет его игрушкой.
Община, выносящая кузницу на окраину, не так уж сильно отличается от нас. Она допускает деятельность кузнеца или колдуна, поскольку надеется извлечь из нее выгоду. Но как только срабатывает «обратная связь» насилия, община возлагает вину на тех, кто ввел ее в искушение. При первом же поводе она обвиняет распорядителей священного насилия; она подозревает их в предательстве общины, к которой они принадлежат лишь наполовину, в использовании против нее подозрительной, как она знает, силы. Стоит какой-то беде — может быть, совершенно не связанной с металлом или его обработкой, — обрушиться на деревню, как кузнец оказывается в опасности: именно его захотят назвать виновником.
Как только священное, то есть насилие, проникает внутрь общины, неизбежно начинает развертываться схема жертвы отпущения. Отношение к кузнецу, даже в спокойные периоды, роднит его не только с колдуном, но и со священным королем, что, впрочем, одно и то же. В некоторых обществах кузнец, оставаясь своего рода парией, играет роль верховного арбитра. В случае нескончаемого конфликта его зовут, чтобы он различил братьев-врагов, — свидетельство того, что он воплощение насилия в его целостности, то пагубного, то, напротив, упорядочивающего и миротворящего. Если кузнецу или колдуну случается погибнуть от рук общины, истерия которой после этого акта насилия стихает, то сокровенная связь между жертвой и священным кажется подтвержденной. Как и все основанные на жертвоприношении системы мысли, система, приносящая в жертву кузнеца, практически закрыта, и ничто не в силах ее опровергнуть.
Насильственная смерть кузнеца, знахаря, колдуна и вообще всякого, кто будто бы особенно тесно связан со священным, может располагаться на полпути между спонтанным коллективным насилием и ритуальным жертвоприношением. Между первым и вторым нигде нет разрыва Понять эту двойственность — значит глубже понять учредительное насилие, ритуальное жертвоприношение и связь между двумя этими феноменами.
* * *Современное непонимание религии продолжает саму религию и выполняет в нашем мире ту функцию, которую выполняла религия в мирах, более непосредственно подверженных сущностному насилию: мы продолжаем не понимать воздействие, оказываемое насилием на человеческие общества. Поэтому мы и не согласны признать тождество насилия и священного. На этом тождестве нужно настаивать; особенно это уместно в области лексикографии. Действительно, во многих языках, в частности в греческом, есть термины, выявляющие неразличение насилия и священного, ясно говорящие в пользу предложенного здесь определения. Можно без труда показать, что культурные тенденции вообще и работа лексикографов в частности почти всегда стремятся разъединить то, что соединил первобытный язык, просто-напросто устранить скандальную комбинацию насилия и священного.