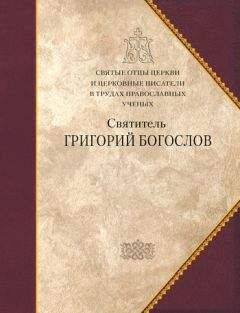Павел Хондзинский - Святитель Филарет Московский: богословский синтез эпохи. Историко-богословское исследование
Из этого государственного служения не исключаются, как «многие мыслят», ни священники, ни монахи, которые и в ветхозаветной Церкви «Царем исраильским во всем подчинены были» [149].
Однако здесь возникает противоречие уже не на уровне методологического «лукавства», но на уровне сути предмета. С одной стороны, за прообраз и образец берется ветхозаветный Израиль с его сакральным бытом, с другой – отрицается сакральность быта вообще, и именно в этой десакрализации жизни видится отличие Нового Завета от Ветхого. Ибо хотя «славен Моисей» в устроении скинии, «похвален Давид» за самое намерение создать храм, «ублажен Соломон» за создание храма, «обрадован Зоровавель» за воздвижение второго, но в Новом Завете священнодействию не прибавляет и не убавляет силы никакое место[150]. Храм только напоминает нам о спасении [151]. Также и иконы – только трофеи, памятники «великих дел Бога нашего»[152]. Это не значит, что сакральное исчезает из жизни вообще, но скорее что оно «отходит» к государству[153].
Наконец, нельзя не привести определения Церкви, данного Феофаном в «Первом учении отроком», содержащем, очевидно, то самое катехизическое учение, которое он считал необходимым и достаточным для правильного истолкования Писания:
«Церковь же быти исповедую сословие православных христиан, догматы и учения содержащих, яковые апостолы предали нам и соборы пастырей правильнии изъяснили. Исповедую же быти в церкви святей духовное правительство, пастырский сан в епископех и пресвитерах, приемлющих власть и должность вязати и решити грехи именем Господним и тайнодействия совершати и люди учити пути спасения»[154].
Как видно, здесь также речь идет только о Церкви земной.
Итак, совершенный Прокоповичем «методологический переворот», независимо от его истоков, действительно означил собой переворот доктринальный. В рамках новой доктрины Писание полагается как богоданный объект научного богословия, на которое возложена ответственность за испытание «предвзятых мнений» или человеческих «преданий». Таким образом, сознательно или невольно открывалось широкое поле для собственно богословской работы в отношении новых проблем церковной жизни[155] – другое дело, что силами одного «научного богословия» здесь обойтись было невозможно, но это стало понятно позднее.
В то же время минимизация Предания сделала уязвимыми многие положения учения Феофана, относящиеся к сопряжению Божественного и тварного в жизни Церкви, что, собственно, всегда переживалось и осознавалось именно на уровне Предания. Это замечено еще современниками, один из которых (кн. Дмитрий Кантемир) писал:
«Идолослужитель есть – сказано в Учении отроком, – когда честь Божию воздает образу или подобию коей-либо вещи небесной, когда кто покорение души своея некоему образу приносит, бояся его и надеяся на него, яко бы некую в себе невидимую силу имущаго. [Однако] хотя автор, кратости поучаяся, непорочным сие произнес умом и сердцем, обаче может быть сумнительство, яко нечто более в себе заключает, нежели елико от младых отроческих умов могло бы поято быти. Есть сила и в воде и в мире и в хлебе и в воде, елее и в мощах» [156].
Отсюда двойственность сакраментологии Феофана. Хотя он и заявляет о твердом разграничении своем с протестантами и стоит, как кажется, на позиции прп. Иоанна Дамаскина, хотя признает различие между Церковью ветхо- и новозаветной, однако если обрезание не только прообразует Крещение, но и подает ту же Христову благодать, то Боговоплощение ничего не изменило в сопряжении земного и небесного, вещественного и духовного, тварного и нетварного в жизни Церкви[157].
Катехизическое определение, занимающее промежуточное положение между «школьным» и «открытым» богословием, представляет Церковь как земное сообщество, как «сословие» верующих. «Открытое» богословие Феофана говорит о том же. Более того, здесь становится еще заметнее, что Церковь-сословие растворяется у него в многосословном государстве, и последнее явно довлеет над нею. Исполнение сословных «должностей» отождествляется с исполнением обязанностей христианина, а «пастыри» представляют собой только один из государственных чинов, имеющих свои специфические государственные обязанности.
Отсылка к ветхозаветному Израилю заставляет поначалу предположить, что экклесиология преосвященного Феофана в основе своей ветхозаветна. Действительно, она ориентирована на земную жизнь[158], непреодолимой бездной отделенную от небесной; на непостижимого и грозного Бога отмщений[159]. Принципиальная разница обнаруживается только в том, что из повседневности изымается церковный быт, всецело отнесенный к области преданий старец и заповедей человеческих, чем разомкнутость земного и небесного на самом деле только подчеркивается. Но ведь именно церковный быт делал Ветхий Израиль царством священников и именно церковное, а не государственное начало было первично в нем, тогда как преосвященный Феофан, по-видимому обращаясь к Священной истории, по сути десакрализует ее[160].
Таким образом, как в школьной «Theologia Christiana», так и в авторском приложении ее к жизни логика Феофановых построений существенно та же: поскольку Божественные истины заключены в вещественной данности текста Писаний, постольку необходимо научное богословие, «непредвзято» изучающее этот текст; поскольку благодать подается вещественными знаками, постольку установлена земная иерархия для правильного распоряжения ими; поскольку Церковь «влита» в земное государство, постольку для спасения достаточно исполнять свои государственные обязанности.
Впрочем, в области «открытого» богословия основные усилия преосвященного Феофана были направлены не столько на экклесиологические разработки, сколько на обоснование новых реалий церковно-государственных отношений. При этом, с одной стороны, пострадала чистота принципов научного богословия, с другой – некоторые положения, важные для будущей богословской работы, – в частности, замечания о ветхозаветном прообразе соотношения государственной и церковных властей в «новой» России обесценились политическим заказом «четвертого Рима».
Наконец, стремление Феофана освободить богословие от «предвзятых мнений», приведшее к представлению о разомкнутости, открытости, незавершенности Предания (ubi traditio?), тем самым вольно или невольно поставило возбужденный тогда внешними переменами жизни экклесиологический вопрос (ubi ecclesia?) как насущный внутренний вопрос самого богословия.
Посмотрим теперь, как реализовались идеи Theologia Christiana у следующего поколения школы, предшествовашего непосредственно эпохе свт. Филарета.
Авторы школы
Святитель Георгий Конисский. «В 1751 г. Георгий Конисский в Киеве» стал читать «догматическое богословие по системе Феофана, с некоторыми, впрочем, изменениями…»[161] Недавно прославленный святитель Георгий (1717–1795) – выдающийся деятель русской Церкви, на выход в свет посмертного собрания сочинений которого откликнулся Пушкин, – был человеком искреннего благочестия и глубокой веры. Возглавляя Могилевскую епархию, до первого раздела Польши находившуюся на территории Речи Посполитой, он немало сделал для защиты и возрождения православия в крае. Известно, что не один раз на жизнь его совершались покушения. Известно также, что в XIX веке дважды вскрывалась его гробница и оба раза было засвидетельствовано нетление его мощей. Тем важнее проследить рецепцию Феофанова научного богословия в его творениях.
В 1751 году он составил для Киево-Могилянской академии «систематический курс богословия Christiana orthodoxa Theologia… присоединив к нему в качестве вводной части герменевтику и библиологию»[162]. Труд остался неизданным, опубликован только конспект его – вполне согласный с Феофановой системой[163]. Однако и не прибегая к нему, возможно реконструировать богословские воззрения свт. Георгия, рассмотрев, какие всходы дала у него система Феофана на поле «открытого» богословия[164].
Согласно, свт. Георгию, Слово Божие есть послание Бога к человекам и уже этого одного достаточно, чтобы внимать ему со вниманием и трепетом[165]. Кроме того только через него можно познать живущего во свете неприступном и в то же время сосредотачивающего в себе добро и жизнь Бога[166]. То, что оно есть именно слово Божие, свидетельствуется содержащимися в нем пророчествами, чудесами апостолов и пророков [167], но вообще его собственное внутреннее свидетельство выше всякого чуда и ему подобает верить более, чем даже чьему-нибудь воскресению из мертвых[168]. Задача сводится только к тому, чтобы основательно вникнуть в смысл Писания, для чего необходимо в том числе и знание языков[169]. Всякое же слово человеческое «никакого уважения, разве когда о вещи важной, не заслуживает»[170]. Под определение «человеческого слова» попадают даже и писания святых мужей, что явствует хотя бы из того, что они неоднократно переделывали их, тогда как слово Божие написано прямо под водительством Святого Духа[171].