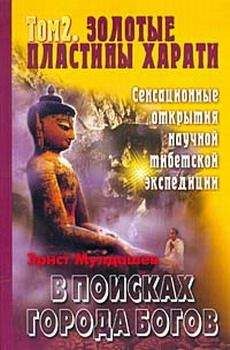Ирина Воронцова - Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ века
Три года живя за границей, Д. Мережковский интересуется и европейской политической жизнью, и «серьезной» (Гиппиус) русской политической эмиграцией – революционной и партийной. По субботам у них бывает Н. Минский, К. Бальмонт, «русские интеллигенты», «люди новой эмиграции», – выброшенные волной революционного движения 1905 г. рабочие, солдаты, матросы[74]. «Мы… начинаем видеть значение католичества и истории и всю важность современных неокатоликов. …Мы все вместе приблизились и пригляделись к тому, что нужно учитывать», – писала А. Белому 3. Гиппиус из Парижа. Соратник Д. Мережковского Дмитрий Философов тоже уехал за границу на теософский съезд.
Именно на этот период приходится полемическая переписка со всеми тремя Антона Владимировича Карташева – человека, наиболее близкого их кружку в эти годы. А. В. Карташев появляется в окружении Мережковских с начала открытия петербургских религиозно-философских собраний[75]. Будучи частым председателем заседаний, а впоследствии и автором многих статей на тему необходимости радикальных церковных реформ, он зарекомендовал себя как горячий приверженец учения о «новом религиозном сознании и общественности», так что часть современных историков прозвала его «эмиссаром» Мережковских[76], очевидно, и потому, что в период первой эмиграции Мережковских он оставался в России проводником их идей. Однако говорить о том, что А. Карташев полностью находился в ученическом положении по отношению к основателям НРС, было бы исторической неправдой. А. Карташев осмысливал и часто критиковал Мережковских за надуманность отдельных идей или неспособность воплотить их на деле. Изучение его писем 1906–1907 гг. к Д. Мережковскому, Д. Философову, 3. Гиппиус показывает, что отношения между ними складывались непросто и негладко. Большинство его выступлений в печати (в русле пропаганды НРС) были связаны с мыслью о пассивности Церкви по части политики внутренней и внешней, а также содержали упреки в том, что, не связав себя с проблемами «мира сего», Церковь не «оживотворила» жизнью мира и уже создавшееся в истории Тело Христово[77]. Но сотрудничество А. Карташева омрачало «триумвират» тем, что, в отличие от теоретиков «нового религиозного сознания», он продолжал тянуться к «исторической» Церкви.
Уезжая в Париж, Мережковские просят А. Карташева присмотреть за сестрами Гиппиус. А. Карташев поселился на одной квартире с Т. Н. и Н. Н. Гиппиус[78]. Таким образом, составляется вослед «троице» Мережковской еще одна «троица», которую должна объединить взаимная (безбрачная) любовь. Личная любовь А. Карташева к Т. Гиппиус нарушала запланированное «единство» трех, и А. Карташев объясняется с 3. Гиппиус: «Очевидно, я в своем искании любви стою не на Вашей… а на другой, общечеловеческой ступени, на которой „личная“ любовь… „звучит“ и как „моя одиночная любовь“…»[79] Любовь, «разлитая на многих», по А. Карташеву, может «возникнуть и держаться… только в религиозном окружении», с «религиозным регулятивом», ее создают, обкрадывая естественную человеческую любовь, тайну соединения двух, о которой говорил апостол Павел [80], считал А. Карташев.
Несмотря на эти свои убеждения, увлеченный НРС А. Карташев в 1906 г. продолжает жить в «бестелесном многолюбии», хотя считает, что Н. Гиппиус «лукаво перескакивает от тайны одного прямо к тайне трех». Он говорит, что «во имя плоти человеческой», которой самими основателями уделяется много места в доктрине НРС, ненавидит «эту бестелесность, как насилие… как холод»[81].
3. Гиппиус был знаком этот «холод», в который они добровольно погрузили себя, создав «единство» своей «троицы»: «Я холодная, или мы, холодные, – писала она Д. Философову в 1905 г., определяя свое влечение к нему. – Мы чисто-холодны уже без всякого призрака, подобия вечно-ощутительной и ощущаемой, движущейся вперед любви к человеку, к людям, к миру», «т. е. я хочу сказать, настоящая любовь на земле, здесь, – должна… проявляться»[82]. 3. Гиппиус предпочитает ради их «делания» умалить значение личного чувства А. Карташева к ее сестре, хотя получает от него письма со строками отчаяния: «Мучусь, ревную, не сплю и прихожу часто к безотрадному выводу, что надобно бежать вон, бросить общую жизнь, забыть, не встречаться. Не с желанием изменить делу, но, конечно, с фактическим неучастием»[83].
Вместе с тем А. Карташев уточняет для Мережковских свою позицию на будущее: «Несмотря на силу личных чувств, я раб истины. И ради истины я готов порвать самые живые связи. …Живые, кровные начала ее [любви] у меня – думаю, по воле Провидения, заложены… ко всем вам. И я буду любить вас, несмотря на весь крест этой любви….Я никуда убегать не буду. Если с моей точки зрения будет ощущаться неполнота, и если вы ее будете отстаивать, я буду бороться с вами, чтобы спасать не только себя и истину, но и вас»[84].
И действительно, в течение года он пишет им длинные письма, уговаривая, что, согласно их же теории перехода одного Завета в другой, необходимо сохранять мистическую связь с историческим христианством в лице Русской Церкви, сохранять путем приобщения в ней Святых Тайн. В отличие от концепции кружка Мережковского, он считает, что «надо любить все во Христе, не дожидаясь, пока я полюбил одного, двух, трех. Это любовь… Христова, живая любовь к живому космосу, к существующему телу человечества… В неосвященной культуре мы любим Христовы нити, и в неосвященном теле человечества… сверхличной любовью должны любить светлые черты Его всемирного Тела»[85].
А. Карташев, по-прежнему посещающий православную церковь, объясняет, что если в их движении не будет любви к «религиозным организмам в виде церквей Христовых», «то и в „новом человеке“ у нас на этом месте не будет ничего». Он аргументирует свою позицию рассуждением о том, что «заново все Тело Христово соткать нельзя, так же как нельзя истребить всего евангельского и исторического лика Христа, как нельзя создать нового, другого совсем Христа. Надо мистически ощущать органичность происходящего в Теле Христовом процесса, а не строить заново homunculus в реторте. <…> Вот почему, – еще раз подчеркивает он цель своих выкладок, – есть все основания приобщаться в них ради любовного и мистического соединения со всем в космическом Теле Христовом»[86].
Однако вопрос о приобщении Святых Таин в Православной Церкви Мережковские после недолгих колебаний решили много ранее рассуждений на ту же тему А. Карташева: он был вовлечен в их круг, когда приоритеты уже определились.
А. Карташеву писали из Парижа не только 3. Гиппиус и Д. Философов, высказывался по поводу его рассуждений и Д. Мережковский. Так что в один день ему случалось писать по два письма: «по ходу фраз письма Зинаиды Николаевны» и «по порядку мыслей письма Дмитрия Сергеевича»[87]. Его убеждали, что, несмотря на все расхождения, продолжают любить его, впрочем, об этом писали всем, кто пытался вырваться из их тесного круга: Н. Бердяеву, А. Белому, Ф. Сологубу, и это утешало «провинившихся», «как всякий дар свыше, не по заслугам»[88]. «Я вас именно не в силах любить из-за наших глубоких различий»[89], – отвечал он.
«Различия» оказались значительными, и А. Карташев называет их: «Различие между нами в том, что я, может быть, и не смогу фактически приобщиться в церкви, но я этого хочу, а Дмитрий Сергеевич пишет, что он не только „не должен“… но и не хочет»[90]. «С грустью сознаю и то, – писал А. Карташев Д. Мережковскому (а по сути, всем троим), – что, совершая Таинство в церкви, отдаляюсь от вас, ибо это укрепляет меня в ощущении, что вы религиозно другие люди, не разделяющие моей любви к подлинным святыням исторических церквей»[91]. Но уйти от религиозного дела, которое захватило его, А. Карташев не мог. Размежевание с общиной Мережковских пугает его необходимостью принципиального духовного выбора. «Уйдя от вас, – пишет он, – я уже буду… с надорванными силами для искания живого Христа. Думаю, что после этого опыта потеряю надежду Его найти, просто от усталости, от отчаяния, передо мною останется один Христос церковный, враг жизни[92]. И встанет вопрос: Ему ли покориться, т. е. уйти в монастырь, или удержать за собой право жизни, и уже тогда естественно стану врагом Церкви и Христианства[93]. Т. е. буду во имя счастья человека бороться с Христианством… А впереди – безрелигиозный, философский максимум – теософическая жизнь». Он понимает, что «„мир сей“ весь отравлен грехом… и принимать его огулом нельзя верующему. Но и взлететь над землей нет сил»[94]. Он соглашается, что «там», в церковной общественности, он лишается «живого мира, свободной общественности, русской революции, социализма, культуры… Там бесплотно[95], а потому и голодно»[96].