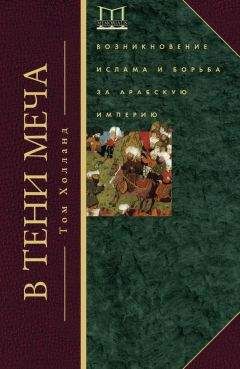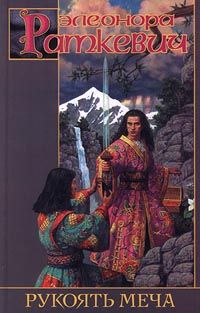В тени меча. Возникновение ислама и борьба за Арабскую империю - Холланд Том
Выведя Parabalani на международную арену, Диоскор не рассчитал свои возможности. Халкедонский собор, созванный через два года после фиаско в Эфесе, наотрез отказался узаконить монофизитские доктрины, так тщательно отточенные в Александрии. Возник тупик. Как всегда непоколебимо уверенные в собственном интеллектуальном превосходстве, большинство александрийцев с вполне предсказуемым презрением отвергли решения Халкедонского собора. Угроза насилия медленно тлела, иногда разгораясь в пламя. Например, в 457 г., когда далекий император убрал опозоренного Диоскора и навязал александрийцам замену, негодующая толпа растерзала нового патриарха прямо в его церкви и пронесла его изуродованный труп по городским улицам. Только александрийская толпа – другой такой не было – столь виртуозно совмещала интеллектуальный снобизм и склонность к жестокости. Тем не менее уже сам масштаб враждебности к Халкедону показал нечто новое. Утонченные дебаты о природе вселенной больше не были, как во времена язычества, прерогативой метрополии. По всей огромной территории Египта – даже в церквушках глухих провинциальных городов и монастырях в пустынях – было немало тех, кто сомневался в одной природе Христа. Провинции настолько изобиловали монофизитами, что они получили отдельное название – «копты», являющееся аббревиатурой от греческого слова «египтяне». Теперь Александрия выступала от имени всего Египта.
Результатом стало массовое проявление непокорности, настолько сильное, что даже Юстиниан задумался. Только в 536 г., окрыленный успехами в Италии, он наконец решил применить меру, впервые использованную в 457 г., и навязать александрийцам патриарха по своему выбору. Сами александрийцы назвали этот шаг «открытием пропасти»27. Всеобщей истерии вряд ли стоило удивляться. Ведь назначенцем Юстиниана стал монах из дельты по имени Павел, который умел учиться на чужих ошибках и не считал само собой разумеющейся покорность своей новой паствы. Чтобы не повторить судьбу своего неудачливого предшественника, он предпочел наносить удары первым. Такая политика подтвердила александрийцам все их самые мрачные опасения относительно халкедонской церкви. Их новый патриарх, даже по стандартам своих предшественников, был психопатом: грубый, жестокий и кровожадный28. Ему настолько оказалась чужда сдержанность, что Юстиниан через пару лет был вынужден признать свою ошибку. Павла отстранили, и на его место из Константинополя отправили нового патриарха, сирийца Зоила. Александрийцы отнеслись к нему с пренебрежением: иностранец и приверженец Халкедона – такого можно только презирать. Но, обнаружив, что он, в общем, безобиден, стали его игнорировать. Так, попытка Юстиниана объединить Египет с имперской церковью закончилась бесславным компромиссом.
Впрочем, это оказалось неизбежным. Копты, коих было очень много, находились слишком далеко и являлись слишком монофизитами, чтобы заставить их повиноваться. Но Юстиниана беспокоили не только эти соображения. Определенно не было совпадением то, что неприятный эпизод работы Павла в Александрии совпал с намного более приятной для людей инициативой – закрытием в изолированном ливийском оазисе последнего действующего храма, посвященного Амону. Этот шаг, хотя и предпринятый с одобрения небес, не был лишен земного расчета. Юстиниан желал напомнить коптам, что и он, и они, несмотря на разногласия, любят Христа. Разумеется, требовалось обязательно добиться единства церкви, но ничуть не менее важной задачей стало обеспечение лояльности Египта, что позволило снабдить обширное население Константинополя и солдат Восточного фронта богатейшими урожаями из поймы Нила. Каждый год по этой реке в Александрию шли бесконечные вереницы барж с тысячами тонн зерна, которое перегружалось на большие суда, и ценнейший груз шел дальше, в имперскую столицу. Александрия – одетый в мрамор город библиотек, лекционных залов и церквей – была средоточием складов, причалов и силосных башен. В противном случае жители Нового Рима давно бы изрядно отощали: «Ведь Константинополь и всю территорию вокруг него кормит в основном Александрия»29.
Летом 541 г., когда призрачный флот бронзовых судов появился у средиземноморского побережья, стало пугающе очевидно, что не только жизнь, но и смерть может прийти из Египта. В июле до Александрии дошли сообщения об эпидемии чумы в Пелузии (город в восточной части дельты Нила), превратившей ее в склеп. Вряд ли при этом возникла паника – неожиданные вспышки болезней были привычным делом и «милостью Бога, который нас защищает, не длились долго»30. Но эпидемия в Пелузии не прекратилась. Она начала быстро распространяться от одного прибрежного города к другому. Всякий раз, когда люди ночью замечали в море бронзовый корабль, уже к утру у них начиналась лихорадка, а потом в паху, под мышками или за ушами появлялись болезненные черные вздутия – греки называли их бубонами. В конце концов, выйдя на улицу, заболевшие падали, являя собой жуткое зрелище для тех, кому не повезло их увидеть: раздутые животы, широко открытые рты, потоки гноя, красные глаза, протянутые вверх руки. Трупы были везде, и хоронить их было некому31. Чума свирепствовала по всему побережью, медленно, но верно приближаясь к Александрии.
В сентябре появились сообщения о первых заболевших в доках, и уже через несколько дней эпидемия охватила город. Александрия, где было сосредоточено интеллектуальное могущество империи, всегда хвасталась лучшими в мире медицинскими школами. Но даже лучшие специалисты ничего не могли сделать с распространением невиданной заразы – ее не могли диагностировать, а значит, тем более не могли назначить никакого лечения. Смертность оказалась чрезвычайно высокой. Вымирали целые дома, кварталы, районы32. На улицах лежали груды гниющих трупов, над которыми роились тучи мух. Очистить их было невозможно. Те, кто осмеливались выйти на улицы, раскаленные безжалостным солнцем, – за добычей или чтобы найти какую-нибудь еду, надевали специальные ярлыки, чтобы их семьи могли, в случае болезни, отыскать их и похоронить. Наблюдатель отметил, что заболевали не только люди. Животные тоже: «Даже у крыс вздувались бубоны, они болели и умирали»33.
Недели шли, чума продолжала свирепствовать. Наконец эпидемия медленно пошла на убыль и через четыре долгих месяца после своего первого появления на улицах Александрии закончилась. Но чума не остановилась, она «всегда двигалась вперед, путешествовала и возникала снова в благоприятное для себя время»34. Торговцы из Египта к этому времени уже освоили путь до Британии – тем, кто пережил эпидемию, надо было зарабатывать на жизнь. Весной 542 г., когда завершился сезон зимних штормов, суда из Александрии начали выходить в море, везя традиционные грузы для продажи – папирус и лен, специи и лекарства, стекло и экзотические сладости. Иногда перевозили птиц и даже верблюдов. А безбилетными пассажирами всегда были крысы. На крысах путешествовали блохи, а в блохах – Yersinia pestis – смертельно опасный патоген, который, оставаясь неизвестным для всех, распространял чуму35. Наука бактериология еще не была развита, и даже самые блестящие медицинские умы Александрии не смогли связать распространение столь беспрецедентной смертельной пандемии с такой распространенной вещью, как блошиный укус. В результате торговые суда разошлись в разные стороны по Средиземноморью, развозя с собой чуму. Иногда то или иное судно бывало атаковано «гневом Господа»36 во время рейса, и в результате судно оказывалось дрейфующим по течению с одними только трупами на борту, пока не тонуло или не садилось на мель. Но чаще судно все же причаливало в каком-то порту, и через день или два бубоны появлялись уже у местного населения: «И всегда, начавшись на берегу, болезнь распространялась в глубь территории»37.
В Константинополе слухи об эпидемии циркулировали много месяцев. Осенью 541 г., когда Александрия корчилась в муках, одна из жительниц Константинополя предсказала, что смерть идет с моря, чтобы поглотить мир. Следующей весной в бухту Золотой Рог вошли первые зерновые суда и начали заполняться зернохранилища на причалах. Одновременно стали появляться странные видения. К кому бы ни прикоснулся призрачный фантом, тот немедленно заболевал. Через несколько дней люди в Константинополе уже умирали тысячами. Первыми стали гибнуть бедняки, но скоро болезнь проникла даже в самые богатые городские кварталы. Целые дворцы в одночасье превращались в склепы, их мозаичные полы оказывались заваленными трупами, сенаторы и рабы становились пищей для червей. Чума проникла даже в императорский дворец – заболел сам Юстиниан. То, что он в конце концов поправился, доказало: чума смертельно опасна, но излечима. Очень немногим удавалось пережить инфекцию. Было ли это Божьим благословением, представляется весьма сомнительным: разве жизнь может доставлять радость, если жена и дети, друзья и родственники – все вокруг мертвы? Несомненно, для тех, кто пережил то лето в Константинополе, город казался проклятым. Улицы оказались пусты, нигде не было никакой деловой активности – только бесконечные похороны. Магазины стояли необитаемыми, рынки – вымершими, печи булочников – холодными. В городе, где никогда не ощущалось недостатка во вкусной еде, начался голод38. Словно одной только эпидемии было недостаточно.