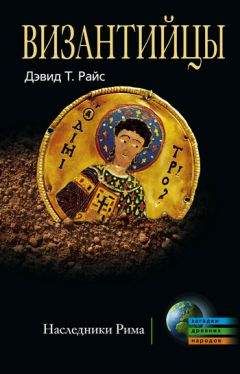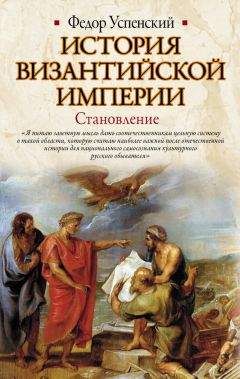Бычков - МАЛАЯ ИСТОРИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ ЭСТЕТИКИ
Новый период византийской культуры, окончательно восстановивший в своих правах нерелигиозную эстетику, ориентирующуюся на античную художественную культуру, но не противоречащую уже новой идеологии, привел к активному проникновению этой эстетики и в области религиозного искусства. Церковь теперь уже практически не возражает против светской эстетики, но стремится активно использовать ее в своих целях.
Большое внимание искусству и красоте слова уделяют в этот период византийские историки. При этом риторская эстетика у них часто на практике вступает в конфликт с законами историографического жанра. Тонкий ценитель слова, теоретик красноречия и одновременно историк Михаил Пселл особенно остро ощущал этот конфликт и пытался для пользы истории развести ее с красноречием. «Я рассказываю об этом, — писал он в «Хронографии», — почти не пользуясь правилами искусства красноречия и убеждения, и пусть кто-нибудь другой, придав совершенство речи, покоряет слух и души слушателей. Я же занятий такого рода не одобряю, и мне ненавистно красноречие, похищающее истину» (Хрон. Зоя 176). Историк, по его мнению, должен быть судьей нелицеприятным и беспристрастным, который «все меряет равной мерой» и «не изощряется в описаниях; дурного или хорошего, но просто и без затей повествует о событиях» (там же, 161).
В XII в. Пселлу вторит Никита Хониат, заявляя, что история, «имея главной целью истину и совершенно чуждаясь ораторского красноречия и поэтического вымысла, отвергает и то, что составляет их отличительную особенность» (Hist. Praef.). В период расцвета гуманитарных наук в Византии история сама становится предметом духовного наслаждения. Никита Хониат утверждает, что самим занимающимся историей «она доставляет столько удовольствия, что конечно никто не будет столь безрассудным, чтобы почтить более приятным что-либо иное, чем историю» (там же). Сама наука истории воспринимается византийскими «гуманистами» как высокое искусство. Полемизируют же историки (часто сами с собой) лишь о мере использования в своем искусстве приемов и методов риторики, господствовавшей в тот период среди византийских искусств[186].
Тот же «ненавистник красноречия» в истории Михаил Пселл часто сам прибегал к его услугам в своей «Хронографии». Никита Хониат считал, что история, так как она предназначена для простого народа, «охотно допускает речь изящную и любит наряжаться, но — в одежду слов простую и чистую, а отнюдь не пышную и иноземную» (там же). Анна Комнина, отличающаяся тонким чувством слова, высоко ценившая красноречие, постоянно сдерживает свою речь, тяготевшую «к изображению прекрасного», чтобы её не упрекнули «в рассказывании басен» (Алекс. IV 8).
По-иному понимал искусство историка Евстафий Солунский. Историк для него, прежде всего, писатель и мыслитель, который по-разному должен излагать «преданья старины глубокой» и события, современником и очевидцем которых он был сам. При изложении событий далекого прошлого «писатель пространно богословствует; он и о причинах бытия говорит, и обильными риторическими прикрасами свою речь изощряет, и экфразами, и описаниями различных мест свое повествование украшает. Одним словом, когда писателя глубоко не трогает то, о чем он пишет, он многое упорядочивает в угоду благозвучию и не отступает от правдоподобия, стремясь лри этом, так как он не был свидетелем описываемых событий, впасть в жалобный тон и затронуть им читателя» (ПВЛ-П 239). Историк, по мнению Евстафия, должен использовать весь арсенал художественных средств, чтобы полнее донести до читателя истину об исторических событиях. Большое внимание уделяет он средствам эмоционально-эстетического воздействия исторического повествования на читателя.
Хронист, описывающий события своего времени, «на кого несчастье наложило свой отпечаток, тот, конечно, воспользуется всеми указанными средствами, но не перейдет границы. Ему следует только преисполниться сострадания обязательно в соответствии со своими личными склонностями». При этом мирской писатель может, по мнению Евстафия, дать «выход своему горю в любых выражениях, и его никто не осудит». Писателю же духовного звания приличествует сдерживать свою эмоциональность и не прибегать к излишним витийствам, чтобы не превратить изображение «чудовищных страданий» в «украшения-побрякушки» (там же).
Рассуждения Евстафия вряд ли вызовут восторг у сторонников строгой исторической науки. Однако они хорошо отражают одну из главных тенденций исторического, а точнее гуманитарного, сознания того времени, нашедшего яркое воплощение у целого ряда писателей. Историческое сочинение рассматривается ими как произведение словесного искусства, несущего историческую истину, но организованного по законам этого искусства.
Уже одно это активное внедрение эстетических законов риторики и поэтики в историографию свидетельствует о большом интересе в Византии X–XII вв. к словесным искусствам и высоком уровне этих искусств[187].
Активная собирательная и филологическая деятельность Фотия, а затем и Арефы Кесарийского привлекли внимание византийцев к художественной специфике античной, а затем и собственно византийской словесности. Фотий, например, высоко ценит произведения, «насыщенные глубокими мыслями», одновременно «доставляющие наслаждение и пользу» (Cod. 26). Важным достоинством словесного искусства он считает соответствие формы содержанию. Он с восхищением пишет о художественном языке Лукиана: «Однако язык у него превосходен, он пользуется словами красочными, меткими, выразительными; в мастерстве сочетать строгий порядок и ясность мысли с внешним блеском и соразмерностью соперников у него нет. Связность слов достигает у него такого совершенства, что при чтении они воспринимаются не как слова, а словно какая-то сладостная музыка, которая, независимо от содержания песни вливается в уши слушающих» (Cod. 128)[188]. С блеском владея художественным языком, Лукиан, однако, по мнению Фотия, не умеет им правильно пользоваться. «Одним словом, повторяю, великолепен слог у него, хотя и не подходит для его сюжетов, которые он сам предназначил для смеха и шуток» (там же). Комические и сатирические сюжеты лукиановских произведений нуждаются, по мнению его строгого византийского критика в иной художественной форме.
В ХН в. Евстафий Солунский, изучая «Одиссею», рассуждает об истинном и ложном в поэзии. Проблема эта, поставленная ещё в античной эстетике, волновавшая представителей патристики (ей много занимался Августин), продолжает интересовать и византийских писателей. По мнению Евстафия, автор «Одиссеи», 'как и другие поэты, искусно перемешал в своих поэмах истину с вымыслом, что вполне соответствует поэтическому искусству. Ведь «у поэтов есть закон излагать не голую историю, а насыщать описание вымыслами» (ПВЛ-П 237), которые необходимы для эмоционально-эстетического воздействия на читателей или слушателей. Более того, у тех, пишет он, «кто владеет искусством слова, существует обычай описывать в поэзии чудесное, чтобы вызывать у слушателей не только удовольствие, но и потрясение» (там же). Здесь византийский автор как бы узаконивает уже для Средневековья идеи античной эстетики, разработанные ещё Аристотелем, Псевдо-Лонгиным, Плутархом.
Высоко оценивая историческое и нравственное содержание поэм Гомера, Евстафий выше всего ставит их художественно-поэтическую значимость. Он осуждает «переработчиков» Гомера, выкидывавших из его поэм все поэтические места и оставлявших лишь голую сюжетную линию. Для образованного византийца XII в. Гомер более ценен своим «поэтическим океаном», а не историческими штудиями. «А что касается Гомера, он — поэт. И поэт, изобилующий словами. Лучше него сказать никто не может. Он необычайно силен в построении поэм. В рассказах весьма убедителен. Во всяком искусстве слова он наставник. Словно из некоего океана, вытекают из него источники разнообразных способов сочетания слов» (ПВЛ-Н 238).
Интерес византийцев, и в частности, церковных деятелей к Гомеру, возникший еще в середине IX в. и достигший своего апогея в XII в.[189], уже сам по себе свидетельствует о характере и ориентации византийской духовной культуры того времени, о широте эстетических представлений средневековых византийцев. Гомер и античная словесность привлекают их внимание прежде всего своей высоко развитой эстетикой слова. Выше всего почитая «мудрость поэзии» Гомера, Евстафий Солунский не без удовольствия говорит и о его риторике: «Словно бурные реки несутся с горных вершин, — так изобилует он риторикой» (ПВЛ-П 237).
Искусство красноречия поднимается в Византии X–XII вв., пожалуй, на самую высокую ступень. Риторская эстетика занимает важное место в византийской эстетике того времени. Главным и, пожалуй, самым талантливым её представителем по праву считается Михаил Пселл, и к нему мы обратимся ниже, но почти все остальные представители гуманитарной интеллигенции X–XII вв. высоко ценили красноречие, в чем мы уже имели возможность не раз убедиться. Для Анны Комниной, выражавшей взгляды своего времени, красноречие являлось важнейшим признаком высоких достоинств человека. Известный писатель, ученый и ритор XII в. Феодор Продром[190] в слове, прославляющем красноречие Аристина, создал настоящий энкомий языку. В его речи язык представлен средоточием духовной жизни человека. Он — слуга разума и «вестник всех движений ума». В языке человека отражается его «внутренний образ»; он «музыкальный инструмент» ума. Поэтому красноречие, по Феодору, — свидетельство, красоты и глубины ума. Здесь он вступает в прямую полемику с раннехристианской эстетикой, выдвигавшей идеал простоты и безыскусности в словесности, осуждавшей красноречие, как защитника" ложного и пустого. «В данном случае я не хвалю Климента Александрийского, — заявляет Продром, — говорившего, что он никогда не и кал ни языка хорошего, ни гармонии слов, а довольствовался лишь тем, что неясно выражал свои мысли. Но в таком случае не было бы никакой разницы между мудрецом и бесчестным продавцом» (ПВЛ-П 209). Для образованного византийца XII в. красноречие становится показателем мудрости человека, обладающего им.