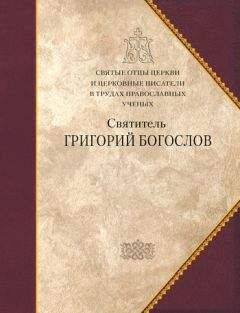Павел Хондзинский - Святитель Филарет Московский: богословский синтез эпохи. Историко-богословское исследование
Естественность подразумевает под собой прежде всего определение прямого смысла Писания. Хотя последнее и может быть мистически понимаемо трояко: аллегорически, тропологически и анагогически, что соответствует трем богословским добродетелям: вере, любви, надежде; однако у каждого места Писания есть только один смысл – он-то и должен пониматься как буквальный: «… и там, где есть аллегорический, то есть (как означено) относящийся к верованию, там не будет тропологического, относящегося к нравственности»[62].
Научность основывается на «просвещающей разум» диалектике и знании языков: еврейского – для Ветхого и греческого – для Нового Завета[63].
Катехизическое учение необходимо для того, чтобы на нем, как на оселке, проверять всякое толкование. Недоумение, на первый взгляд, может вызвать отнесение этого учения к вещам, дарованным небом (см. выше). Однако оно разъясняется тем, что катехизис представляет собой начала слова Божия (Евр. 5: 12) и, следовательно, вполне содержится в последнем: иными словами, катехизис есть некая «выжимка» из Писания, облегчающая разумение первоисточника в целом[64].
Страх Божий, поставленный четвертым предварительным условием экзегезы, сводится к убеждению в божественности Писания и опасению привнести в истолкование его нечто свое, человеческое, а стало быть, погрешительное («Сюда следует добавить, чтобы к Тому при этом взывали и Того слезно умоляли, Кто отверзает ум разуметь Писания»[65]). Важнейшей же отрицательной предпосылкой, без которой и первые четыре не принесут пользы, следует считать отсутствие «предвзятых мнений», на чем бы они ни основывались[66]. Таким образом, убеждение в Божественности Писания и научный подход к нему совпадают в существенной точке: страхе «предвзятых» или, что то же, «человеческих» мнений.
Такой подход преосвященного Феофана к Писанию П. Червяковский не без оснований обозначает как августинизм[67]. Действительно, если «антропологический минимализм»[68] есть характерная черта последнего, то у Прокоповича она обнаруживается в полной мере. Теология не содержит в себе знания, которое «подлежит естественным человеческим силам; [здесь] все – небесное, все – таинственное, не только чувствам, но даже и смертному разуму недоступное; что никогда и никакими нашими аргументами не может быть доказано, если Сам Бог не откроет нам этого на священных страницах»[69]. Для восприятия богословия более всего необходимы «нищета души, страх Божий и простота сердца»[70]. Вообще, главное – не противиться «всепобеждающему Писанию, но побежденными и связанными предать себя Христу», не препятствовать предвзятыми мнениями «воздействию слова Божия», не ослушаться «внушений Святого Духа»[71].
Однако для понимания дальнейшего важно отметить, что избранная преосвященным Феофаном точка зрения приводит не только к резкому противопоставлению «божественного» слова Писания и «немощного» слова человеческого, но одновременно и слова Писания с давшим его Богом. С одной стороны, приведенный выше пример с апостолом Петром наглядно показывает, что даже сверхъестественное слово Божие вполне может почитаться Откровением только тогда, когда «овеществится» в Писании. С другой – слова для преосвященного Феофана суть «знаки мыслей или чувств» (signa cogitationum seu sensuum). Однако, становясь словами Писания, эти же знаки становятся уже знаками Откровения, в известном смысле знаками Бога. Как соотнести «вещественность» Писания с Тем, Кто стоит за ним?
При ответе на этот вопрос следует учесть, что «антропологический минимализм» блаженного Августина в данном случае переносится преосвященным Феофаном на восприятие слова Писания, что для самого блж. Августина не столь уже характерно. Вероятно, что такой подход был заимствован Прокоповичем у пиетистов. Однако и у блж. Августина, и у пиетистов существовало еще понятие, отсутствующее у преосвященного Феофана, – понятие внутреннего слова. Правда, само оно, по справедливому замечанию Т. А. Нестика, «в христианской литературе… так и не получило однозначного определения»[72], однако можно указать на несколько важных позиций.
Каппадокийцы говорят о Слове ипостасном и слове человеческом, в котором различают слово внутреннее – мысленное и слово внешнее – звучащее [73]. Можно предполагать, что свой отпечаток на их концепцию наложила полемика с Евномием, потребовавшая сделать упор на «тварности» слова, вне соотнесения его с нетварным Словом Божиим.
Однако уже блаженный Августин задумывается над этой проблемой, и хотя мученик Иоанн (Попов) считает, что в августиновском учении о слове можно констатировать «почти полное совпадение во всем существенном между блж. Августином и Григорием Нисским»[74], однако это не совсем так. С одной стороны для блж. Августина слова также прежде всего знаки. Выраженное в звуках или буквах внешнее слово есть знак внутреннего, и скорее этому последнему принадлежит наименование слова, но и оно в свою очередь лишь знак мысли [75]. Однако есть и иное, подлинное внутренне слово, «ни произносимое в звуке, ни мыслимое в подобии звука», которое «предшествует всем знакам, каковыми обозначается»[76], и в этом-то слове всякий, «кто может понять его, теперь может видеть как бы тем зеркалом[77], как бы в том гадании некоторое подобие Того Слова, о Котором сказано «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин 1. 1)»[78]. Необходимым условием такого понимания является озарение божественным светом[79].
Сказанное относится блж. Августином и к слову Божию как «сверхъестественному»[80], в терминологии преосвященного Феофана (см. выше), так и «естественному»: «Слово Божие Христос, Слово Божие в Законе, Слово в Пророках»[81], причем это единство «Слова» выражает себя согласно Августину в единстве Церкви[82].
Таким образом, блж. Августин устанавливает связь между «истинным» внутренним словом и Словом Божиим, хотя и затрудняется объяснить, как она соотносится с мыслимым словом-знаком[83]. Как бы то ни было, его воззрения значительно обогащают классическую античную схему, за пределы которой практически не выходили каппадокийцы [84].
Более поздняя история представлений о внутреннем слове, собственно, не так важна для дальнейшего и потому, не оспаривая научного мнения о том, что «разрушение аналогии внутреннее – истинное в XIV–XV вв. лишило смысла и понятие внутреннего слова, переведя его в разряд второстепенных и устаревших»[85], замечу только: новую жизнь и новый смысл дал ему пиетизм[86]. Под внешним словом пиетисты разумели по преимуществу слово Писания[87], под внутренним – по благодати в акте веры данное переживание его истинного смысла: «…все протестанты… настойчиво соединяли в своем учении о Писании внешнее слово с внутренним, чувствуя, что слово Божие есть не писанная книга, а понятое разумением веры слово истины, начертанное в ней»[88]. В свою очередь, крайности учения обнаруживались либо в обожествлении самих букв и даже диакритических знаков Писания[89], либо в мистическом отождествлении внутреннего слова с самим Ипостасным Словом, вселение Которого делает ненужным слово Писания вообще[90]. Важных отличий от августиновского учения, насколько можно судить, у пиетистов насчитывалось два: отсутствовали «фактор Церкви»[91] и анамнеза: озарение внутренним словом для пиетистов было актом не столько припоминания, сколько «рождения»[92].
Наконец, «Theologia Christiana» настаивает на непостижимой человеческим умом Божественности Священного Писания и в этом смысле репродуцирует «пиетический августинизм». В то же время ее автор не пользуется ни августиновскими, ни пиетическими представлениями о внутреннем слове, так или иначе связующими через «свидетельство Духа» Бога и данное Им слово. Причем формально признавая необходимость такого свидетельства (когда призывает, например, студентов «не противиться внушениям Духа»), преосвященный Феофан ради научности последовательно отвергает его, как при доказательстве божественного происхождения самого Писания[93], так и, собственно, в богословской работе, где незаметно подменяет lux incorporalis на lumen naturae[94]. В результате остается заключенное в Писании Откровение, как подлежащий научному изучению внешний «вещественный» знак скрытого за ним грозного и неприступного Бога.