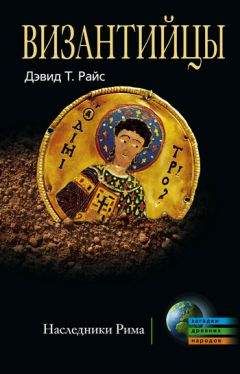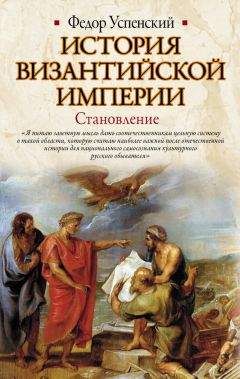Бычков - МАЛАЯ ИСТОРИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ ЭСТЕТИКИ
Третью световую систему в византийской живописи (прежде всего в мозаиках и иконах) составляют краски. Почти все они здесь светоносны. Яркие локальные цвета, включаясь в сложные художественные взаимосвязи, как со светом золотых фонов и нимбов, так и с внутренним светом ликов, создают богатую све-то-цветовую симфонию, возбуждающую глубокий эстетический отклик у зрителей.
Цвет играл в византийской эстетике особую роль. Наряду со словом Он выступал важным выразителем духовных сущностей, обладая глубокой художественно-религиозной символикой[145]. Укажу лишь кратко на значимость основных цветов палитры византийского мастера.
Пурпурный цвет — важнейший в византийской культуре; цвет божественного и императорского достоинства. Только василевс подписывался пурпурными чернилами, восседал на пурпурном троне, носил пурпурные сапоги; только алтарное Евангелие было пурпурного цвета; только Богоматерь в знак особого почтения изображали в пурпурных одеждах.
Красный — цвет пламенности, огня, как карающего, так и очищающего, это цвет «животворного тепла», а, следовательно, символ жизни. Но он же — и цвет крови, прежде всего, крови Христа, а значит, по богословской аргументации, знак истинности его воплощения и грядущего спасения рода человеческого.
Белый — равноправный (в отличие от новоевропейской живописи) цвет. Он часто противостоит красному, как символ божественного света. Одежды Христа на Фаворе «сделались белыми, как свет» (Матф. 17, 2) — такими они и изображались иконописцами. С античности белый цвет имел значение «чистоты» и святости, отрешенности от мирского (цветного), устремленности к духовной простоте и возвышенности. Эту символику он сохранил и в византийском эстетическом сознании. На иконах и росписях многие святые и праведники изображены в белом; как правило, белыми пеленами овито тело новорожденного Христа в композиции «Рождества Христова», души праведников — в «Лоне Авраамовом», душа Марии — в «Успении». Как символ чистоты и отрешенности от всего земного воспринимался белый цвет льняных тканей, овивающих тело Христа в «Положении во гроб», и как знак божественного родства — белый цвет коня (осла) у яслей с младенцем в «Рождестве Христовом».
Черный цвет в противоположность белому воспринимался как знак конца, смерти. В иконописи только глубины пещеры — символа могилы, ада — закрашивались черной краской.
Оппозиция «белое — черное» с достаточно устойчивым для многих культур значением «жизнь — смерть» вошла в иконопись в виде четкой иконографической формулы: белая спеленатая фигура на фоне черной пещеры (младенец Христос в «Рождестве», воскрешенный Лазарь в «Воскрешении Лазаря»).
Зеленый цвет символизировал юность, цветение. Это — типично земной цвет; он противостоит в изображениях небесным и «царственным» цветам — пурпурному, золотому, голубому.
Синий и голубой воспринимались в византийском мире как символы трансцендентного мира[146].
Таким образом эстетическое сознание византийцев X–XII вв., как мы видим, развивалось по самым разным, часто противоположным, направлениям. При этом эстетическая теория и художественная практика нередко занимали полярные места в его многообразной картине. Особо наглядно противостояние оппозиционных направлений в эстетике проявилось именно в рассматриваемый период, о чем хорошо свидетельствует и активное развитие в эти века таких противоположных направлений, как эстетика аскетизма и антикизирующая эстетика.
Эстетика духовных озарений
Авторы агиографий X–XII вв. продолжают традицию утверждения идеала духовной красоты и грядущего вечного блаженства и, соответственно, проповедуют в качестве норм земной жизни нестяжательность, бесстрастие, отказ от земных благ, аскезу и, как высший подвиг (если представится случай), — мученичество за духовные идеалы. Вознаграждение же, духовное по своей сущности, описывается агиографами часто в эстетической терминологии и в образах, доступных пониманию самых широких, необразованных народных масс.
Подвижник, ведущий праведную жизнь, т. е. устремленный к духовной красоте, по свидетельству агио-графов, часто до глубокой старости сохраняет красоту внешнего облика: «хотя Филарет был уже глубоким старцем — он дожил до девяноста лет — ни зубов его, ни лица, ни десен не тронуло время: он был свеж, цве-тущ и светел ликом, как яблоко или роза» (111)[147]. Более того, лица выдающихся подвижников, как Николай или Алексей, излучали, согласно агиографам, «пре-светлое сияние» (454; 160). Многие из них, особенно после смерти, источали благоухание, а их мощи — благовонное миро (111; 154; 161).
Место вечного блаженства, или рай, изображается в житийной литературе, как идеальный прекрасный сад, благоухающий ароматами бесчисленных цветов и услаждающий глаз обилием зрелых плодов, то есть как некий идеал природной красоты, который на земле никто «не мог узреть. Ибо росло там множество дерев разновидных, прекрасных, высоких и не похожих на обычные. Все они были покрыты плодами изобильнее, чем листьями, а плоды имели такие благоцветные, большие и душистые, каких не зрели смертные. Под этими деревами текли обильные студеные и чистые воды, и поднимались там всякого рода душистые травы, и оттуда струило всевозможными ароматами, так что стоявшему чудилось, будто он вдруг попал в покой, где приготовляют благовония» (181). В другом описании рай также предстает прекрасным садом, одновременно цветущим и плодоносящим и «насыщающим благовонием всю землю ту». Растут там диковинные растения, но среди них можно увидеть и «всякое дерево, какое растет и в наших садах, но краше и выше, и все они струили благоухание ароматов, и вьющиеся вокруг дерев прекрасные виноградные лозы, покрытые тяжелыми гроздьями, и финиковые пальмы, и все, что украшает людскую трапезу» (112).
Интересно отметить, что в этом идеальном пейзаже господствуют визуально воспринимаемая красота и благоухание. Эстетика запаха занимает здесь, пожалуй, едва ли не первое место — черта, характерная для византийской культуры, хотя и не оригинальная, берущая начало в древних культурах Востока. На византийской почве обонятельная эстетика наполнилась новым духовным содержанием.
Однако все эти слишком уже красивые и даже чувственные элементы в суровой в целом эстетике аскетизма, свидетельствующие о проникновении в монастырскую культуру каких-то глубинных начал народной культуры, народного сознания, скорее роднят ее с антикизирующим направлением, чем отделяют от него. Основные же положения этой эстетики, как и в предшествующие периоды, формулировались самими подвижниками, а не популяризаторами их жизни и деятельности — агиографами.
В рассматриваемый период главным представителем эстетики аскетизма был Симеон Новый Богослов (949—1022)[148]. Также как и его предшественники, он развивает идеи бегства от «прелестей мира сего», борьбы с тремя главными пороками, поражающими души людей — «сластолюбием, сребролюбием и славолюбием», проповедует нестяжательность, аскетический и добродетельный образ жизни, любовь к людям. Награду за это он видит в постижении и узрении Бога «в красоте и сладости» его (19, 2)[149], в обретении вечного «наслаждения царством небесным» (19, 4) с его несказанными «сладостью и благоуханием» (3). Проповедуя в целом традиционный для подвижнической жизни путь к «царству блаженства», Симеон акцентирует особое внимание на ряде эмоционально-психологических состояний человека, занимавших важное место в духовном мире большой части византийцев, определявших важные аспекты эстетики аскетизма и нашедших отражение в художественной культуре Византии того времени, так или иначе связанной с монастырями.
Истинный подвижник, по мнению Симеона, должен отличаться богатством и глубиной эмоциональной жизни определенной направленности, именно — повышенной чувствительностью к скорбям, горестям, беспомощности и быстротечности человеческой жизни. Симеон, по свидетельству его ученика и агиотрафа Никиты Стифата активно развивал в себе эту повышенную чувствительность, размышляя о смерти, молясь на кладбище, находясь «постоянно в состоянии сокрушенного умиления… Плач сделался пищей для него»[150]. Сам обладая, по словам Никиты, «даром умиления и слез»[151], Симеон считал его важнейшей принадлежностью духовного мира подвижника. Почитая смирение «началом и основанием» подвижнической жизни, Симеон на второе место после него ставил плач, усматривая в нем непостижимое чудо — катарсис души с помощью вроде бы чисто физических процессов: «Чудо неизъяснимое! Текут слезы вещественные из очей вещественных, и омывают душу невещественную от скверн греховных» (3). Плач приносит человеку утешение и рождает в нем радость (там же; 19, 3). Слезы, будучи даром «божественного просвещения», очищают душу человека, способствуют осиянию её неземным светом. «О слезы! — восклицает Симеон, — вы, источаясь от действия божественного просвещения, отверзаете самое небо и низводите божественное утешение. От сего утешения и от сладости духовной, какие испытываю, опять говорю и многократно буду повторять то же, что где слезы с истинным ведением, там и осияние божественного света, а где осияние света, там и дарование всех благ…» (3). Эмоциональное состояние печали и сокрушения, достигаемое с помощью физического процесса плача и особой настроенностью души, по убеждению Симеона, переходит (и в этом пафос и смысл эстетики аскетизма) в свою противоположность — состояние духовной радости, высшего наслаждения, узрения «божественного света».