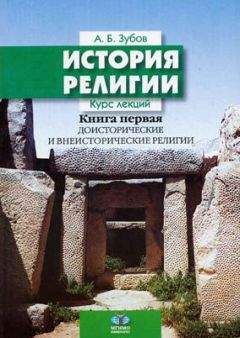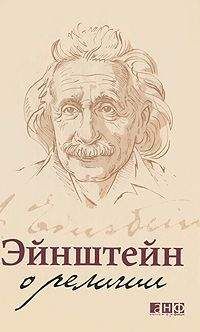Эдвард Эванс-Притчард - Теории примитивной религии
Столкнувшись с этой дилеммой, Природа (подобные «конкретизации» встречаются в трудах Бергсона в большом количестве) создает приспособление для того, чтобы восстановить уверенность человека в своих действиях и принудить его к жертве собственными интересами, погружая его в инстинктивную глубину, прикрытую слоем интеллекта. Используя его способность к мифотворчеству, найденную в этой глубине, она усыпила интеллект, не разрушая его. Из этого произошли магия и религия, вначале неразличимые, хотя впоследствии каждая из них идет своей дорогой. Они поддерживают необходимый баланс с интеллектом и позволяют человеку, путем манипуляции воображаемыми природными в природе или обращения к воображаемым духам, вновь вернуться к исполнению своих задач; они также заставляют его забыть свои эгоистические интересы ради интересов общих и подчиниться, при помощи табу, общей дисциплине. Таким образом, то, что инстинкт делает для животных, религия делает для человека, противопоставляя его интеллект эгоистическим интересам в критических ситуациях интеллектуального протеста. Следовательно, религия является не продуктом страха, как полагали, но гарантией и защитой от страха. В конечном счете это продукт инстинктивного побуждения, жизненного импульса, обеспечивающий человеку выживание и его эволюционное восхождение к еще большим высотам. Бергсон высказывается об этом одной фразой: религия — это «защитная реакция природы против размывающей силы интеллекта» [Bergson 1956: 122]. Итак, поскольку данные функции религии, какие бы чудовищные конструкции воображения она ни порождала, будучи не привязаны к реальности, существенны для выживания как для индивида, так и для общества; и не приходится удивляться тому, что, в то время как были и есть общества, лишенные искусства, науки и философии, никогда не было ни одного общества без религии. «Религия, сосуществуя с нашим видом, должна подходить к нашей структуре» [Bergson 1956: 176].
Бергсон использовал вторичные источники, в частности труды своего друга Леви-Брюля, когда писал о «первобытных» идеях в современных ему простых обществах, но, когда он говорил о примитивном человеке, он имел в виду некоторого гипотетического доисторического человека, и этот человек был для него чем-то вроде диалектического устройства, усиливавшего контраст между статической религией закрытого общества и мистической религией открытого общества будущего, которую, руководимое личным религиозным опытом, его воображение предвидело.
Вы могли бы заметить, что в самом общем смысле «инстинкт» Бергсона согласуется с «не-логико-экспериментальной остаточностью» Парето и «прелогическим» Леви-Брюля, и его «интеллект» близок «логико-экспериментальному» Парето и «логическому» Леви-Брюля; и что проблема, замеченная Парето и Бергсоном, но не Леви-Брюлем, была, хотя и освещенная под разными углами зрения, в сущности, одна и та же. Можно далее заметить, что хотя все трое многое сообщают нам о природе иррационального, они говорят очень мало о рациональном, и, таким образом, трудно составить себе представление о том, в чем заключается разница в их взглядах при описании данного контраста.
Немецкий социальный историк Макс Вебер [Weber 1947], к которому мы обратимся в качестве последнего примера, касается все той же проблемы, хотя и не так подробно, его «рациональное» как противовес «традиционному» и «харизматичному» в некоторой степени соответствует противоположным терминам рассмотренных авторов. Он различает три идеальных, или «чистых», типа социальной активности. Рациональный — это наиболее понятный тип, лучше всего изученный в капиталистической экономике Запада, хотя очевидно присутствует во всех видах деятельности, подчиненных бюрократическому контролю, унификации, и в результате — подвергшийся почти полной деперсонализации. Традиционный характеризуется почтением ко всему, что существовало всегда, — типичен для консервативных и относительно неизменных обществ, в которых преобладают аффективные проявления чувств. Первобытные общества принадлежат к этому типу, хотя он, кажется, прочитал мало о них. И, наконец, харизматический тип до тех пор, пока его не унифицирует удушающая бюрократия, как это бывает почти всегда, если он успешен, — это свободное, индивидуальное порождение духа: он представлен пророком, героическим воином, революционером и т. д.; такие люди возникают как лидеры во времена лишений и им приписываются необычайные и сверхъестественные способности. Такие лидеры могут появиться в любом обществе.
Так же как и Бергсон, Макс Вебер делает различия между тем, что он называет магической религиозностью, религиями «первобытных» и варварских народов, и универсалистскими религиями пророков, которые поколебали мистические (в веберовском смысле этого слова) связи закрытых обществ, закрытых групп и ассоциаций общин; впрочем, оба этих типа в основном имеют дело с ценностями «этого» мира, такими, как здоровье, долгая жизнь, процветание. В некотором смысле слова религия сама по себе не лишена рациональности. Пуританизм, апологетика, казуистика — высокорациональны. Из этого следует, что религиозные доктрины могут создавать ethos, пригодный для развития светского общества. Протестантские секты и рост западного капитализма являются примерами этого. Тем не менее рациональность религиозной доктрины находится в напряженных отношениях с секулярной рациональностью; вторая постепенно вытесняет первую из одной сферы за другой — из права, политики, экономики и науки, что приводит, по выражению Фридриха Шиллера, к «расколдовыванию мира». В ином смысле — религия является нерациональной даже в ее рационализированных формах; и хотя Макс Вебер видел ее как убежище от полной деструкции личности неизбежными тенденциями современной жизни, он сам не мог получить приют в ней: скорее следует примириться с заключением в ужасном обществе и приготовиться стать винтиком в машине, лишающей человека всего, что делает его индивидуальностью, имеющей личностные связи с другими индивидуальностями. Но, хотя все идет именно в этом направлении, религия все еще играет важную роль в социальной жизни, и задача социологов — показать, в чем эта роль состоит не только в рационализированных обществах Западной Европы, но и в ранние периоды истории и в других частях мира, демонстрируя, как в различных типах обществ различные типы религии формируются другими сферами социальной жизни и сами формируют их. Говоря кратко, мы должны спросить, какова роль нерационального в социальной жизни и какую роль играет в нашей жизни рациональное, традиционное и харизматическое. Итак, Вебер задавал во многом те же самые вопросы, что Парето и Бергсон.
Таковы вопросы — я не буду больше приводить примеров. Являются ли ответы на них сколько-нибудь более удовлетворительными, чем те, которые мы рассматривали в предшествовавших лекциях? Я думаю, что нет. Они столь же туманны, столь же общи, немного простоваты, сильно отдают концепцией прагматизма. Религия помогает защитить социальное единство, она дает человеку уверенность и т. д. Но ведут ли нас такие объяснения далеко, и, если они истинны, что еще надо доказать, то как определить, каким именно образом и в какой степени религия производит эти эффекты?
Мой ответ на вопрос, заданный в начале предыдущего абзаца, должен состоять в следующем: я думаю, что поскольку сформулированная проблема, сколь она ни широка, тем не менее реальна, предложенные ответы не впечатляют. Я бы предложил продолжить исследования данного предмета, пока воздержавшись от ответов. Сравнительное религиоведение — это предмет, вряд ли представленный в наших университетах, а данные, используемые теми, кто представляется таковыми, происходят в конечном счете из священных текстов, теологических трудов, экзегетики106, работ мистиков и прочих. Но для антрополога или социолога, я думаю, это наименее важная часть религии, поскольку совершенно ясно, что исследователи, которые писали книги об исторических религиях, иногда были не уверены в том, что даже ключевые слова оригинальных текстов означали для авторов. Филологическая реконструкция и интерпретация этих ключевых слов часто ненадежна, противоречива или неприемлема, например, как в случае со словом «бог». Изучающие древнюю религию или религию на ее ранних стадиях не имеют других способов, нежели исследовать ее на основе текстов, — современники текстов давно умерли, и нет возможности их опросить. Могут возникнуть серьезные искажения, как, например, в том случае, когда утверждают, что буддизм и джайнизм — атеистические религии. Несомненно, они могли рассматриваться как системы философии и психологии их создателями, но мы вполне можем спросить: а были ли они таковыми для обычных людей, — а ведь именно жизнь обыкновенных людей интересует антрополога в первую очередь. То, что наиболее важно для него — способ, каким религиозные верования и практики в любом обществе воздействуют на мышление, чувства, жизнь и отношения людей. Мало книг описывает и анализирует в сколько-нибудь адекватной форме роль религии в каких-либо индуистских, буддистских, исламских или христианских общинах. Для социального антрополога религия — это то, что она делает. Я должен добавить, что такие исследования примитивных народов — весьма редкое явление. И в цивилизованных, и в «примитивных» обществах здесь заключено огромное и совершенно нетронутое поле для исследований.