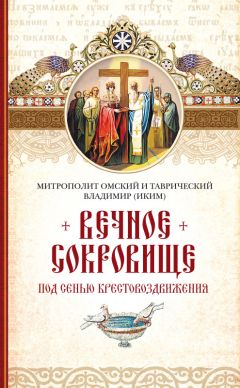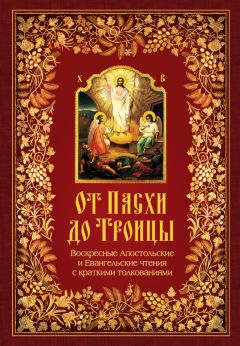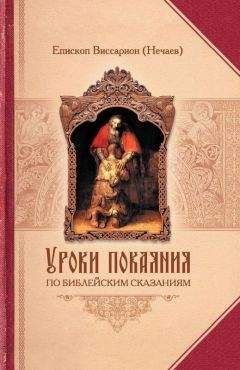Валентин Свенцицкий - Собрание сочинений. Том 2. Письма ко всем. Обращения к народу 1905-1908
С одной стороны, литература молчит и лжёт своим молчанием, с другой – у неё слишком много слов, ставших не более как писательской техникой. Слова эти совершенно праздные, никому ненужные, ибо за ними не стоит ничья живая жизнь, и к этому второму виду лжи опять-таки все так привыкли, что даже странно кажется требование безусловного соответствия литературной проповеди с личной жизнью. К чему? Но опять-таки есть несомненные симптомы, что и это требование назрело в обществе, хотя и не сознано им во всей полноте. Симптомы заключаются в том особом интересе, сочувствии и значении, которое приобретают произведения, заведомо запечатлённые в личной жизни. Если сравнить самые благородные, самые талантливые, самые литературные статьи в каком-нибудь из наших журналов, написанные «первоклассными» публицистами, с отрывочными речами, положим, Каляева, то громадная разница тех и других будет очевидна259. Слова того, кто черпает право говорить их из собственной жизни, обязывают. А слова «праздные», хотя бы и самые «литературные», в лучшем случае возбуждают мимолётную тревогу. Общество ещё боится своё чаяние выразить в форме требования, но оно уже устало читать литературные упражнения на благородные темы и жаждет веры в правду каждого написанного слова. Когда вы теперь берёте газету, журнал или брошюру, за каждой благородной строкой вам не рисуется благородного лица, а грязная, изолгавшаяся литературная среда. Это становится тяжело нестерпимо. Этому должен быть положен конец, хотя бы в том смысле, чтобы у всякого читателя было отчётливое сознание, с кем он имеет дело. Что может быть тяжелее положения, как разговор с человеком, которому не веришь. Правда, если он умён и талантлив, слова его могут произвести известное впечатление, но всё-таки вам будет стыдно смотреть ему в глаза, и души вашей он затронуть не в силах. А ведь к литературе в её целом у всех именно такое отношение. Общество должно потребовать отчёта у писателей в их жизни, и общественное мнение должно беспощадно лишать права писать «праздные слова».
Приступая к изданию «Дневника», мы твёрдо решили всеми силами бороться против той и другой лжи. Повторяем, это очень смело, это нахально – учить всю нашу литературу, как нужно писать. Пусть так. Обличая во лжи, мы не смущаемся быть даже нахальными. Мы хотим, чтобы наш дневник был плоть от плоти нашей и кость от костей наших. Чтобы мы по чистой совести могли сказать: когда мы садимся писать, пред нами стоят не «читатели», а живые люди, и этим живым людям мы хотим открыть нашу живую душу. Если что покажется здесь неуместным, или «нахальным», или «не по праву» – не беда. Какое нужно, в самом деле, право сказать истерзанному человеку: посмотри, мы истерзаны тем же? Пусть нас ругают критики и заслуженные литераторы (если удостоят, конечно), нам это не важно. Нам важно, чтобы нас поняли те, кому мы пишем, – нам важно, чтобы нас поняли «взыскующие Града».
Но кто же они такие?
* * *Их много, очень много, гораздо больше, чем принято думать.
«Своего града не имам – нового взыскуем», – так говорил гонимый раскол, по тёмным лесам, взлелеяв свою грёзу о святом граде.
Та же тоска по святом граде лежит в основе всех общественных и идейных брожений русской интеллигенции260. Своего града нет. Он должен быть. Без него жить нельзя. И ищут его до кровавого пота, до отчаяния, до бунта, до исступлённого отрицания всякого Бога, всякого града.
Или в упрямой злобе ложатся на знойный песок. «Нашёл! Он должен быть тут. Он не может не быть!» А сам видит – ясно, что видит, нельзя не видеть – пустая, жалкая, ненужная песчаная отмель. Но попробуй сказать. С каким страстным убеждением, со слезами, задыхаясь, он скажет вам: «Доказано, наука доказала, святой град тут, в этом именно самом месте». Убить готов, коли не поддакнуть. Потому и готов убить, что знает, на чём стоит, знает, что песок голый, лучше вас знает и взыскует, взыскует в самой этой упрямой, слепой, как крот, вере своей. Нужна особая минута, какая, может быть, случается с человеком раз-два в жизни, чтобы с глазу на глаз, уставший, притихший, как больной ребёнок, он вдруг открыл вам свою исстрадавшуюся душу. Вы не смотрите, что в голосе его столько убеждений, таким острым огнём горят глаза, – чем больше силы в слове, тем ярче жажда грядущего града. Я теперь никогда не верю, что люди искренно песок принимают за святой град261, – это от нетерпения, от ревности, что найти его не удаётся.
Это «теперь» началось для меня с тех пор, как однажды пришёл ко мне N262.
Я почти не был знаком с ним. Встречались всего несколько раз. Но он был очень популярный, видный деятель, и я хорошо знал его по рассказам. Это была гордость усевшихся на песке. На него всегда ссылались, как на неопровержимое доказательство, что и песок может быть святым градом: «Вся суть в точке зрения».
Пришёл он в необычное время, почти ночью. Не раздеваясь вошёл в комнату, сел на первый попавшийся стул и не глядя на меня резко сказал:
– Можно на десять минут?
– Конечно, пожалуйста…
– Не притворяйтесь, – неожиданно крикнул он, вскакивая со стула, и, сдержавшись, быстро заходил по комнате.
Помню, странное чувство тогда охватило меня. Оно всегда бывает, когда свершается что-нибудь большое. Точно ты знаешь наперёд, что всё это обязательно так будет263, и покорно отдаёшься факту, не удивляешься, а ждёшь и предчувствуешь.
– Вы нашли? – грубо засмеялся он, останавливаясь против меня: – Вы иезуит, лжец – слышите!.. не смейте мне возражать… вы смерти боитесь. Нелепый обман, больше ничего… Бессмертие… воскресение, – лицемерное ханжество или тупоумие – выбирайте любое…
Он говорил бессвязно, не давая мне сказать слова.
– Я вам не верю, слышите: не верю ни одному вашему слову… Вы ловкий мошенник, надувающий всех… Христос, Воскресение, Церковь… Да знаете ли вы, знаете ли вы, что я плюю на вашего Христа, плюю и ногой растираю… Не морщитесь, это тоже притворство. И вам всё равно, всё равно… вы не верите…
Зачем, отвечайте мне: зачем вы, подлые изуверы, до двадцатого века донесли ваше гнусное нелепое враньё, сумасшедший бред о каком-то полубоге? Отвечайте мне: ел он? пил он? все функции совершал?264 Полубог, а?.. Зачем вы мучаете людей вашим изуверством… Признайтесь мне одному с глазу на глаз… Послушайте…
Он наклонился ко мне:
– …Признайтесь… я никогда никому не скажу, клянусь вам… Скажите, что вы… ну, что вы для своего спасения… для самовнушения… одним словом… что вы Христа не признаёте, в бессмертие не верите, что вам так же страшно жить, как и всем, что вы ничего, ничего не знаете… Мой визит нелеп… Скажите это – я уйду и ни слова никогда никому…
И сразу меняя тон, не дожидаясь моего ответа (я знал, что он и не нужен ему), тихо, так что я, скорей, почувствовал, чем расслышал, сказал:
– Верите… знаю… так это я.
Вот я посижу, – с расстановкой продолжал он, – расскажу вам всё и уйду, забудьте этот нелепый вечер. Я сам не знаю, зачем к вам пришёл. Так… Всё «так» на этом свете. И больше ничего.
Мне нужно сказать вам… зачем? Чорт его знает зачем. Я ни во что не верю: в Бога не верю, в жизнь не верю, в смерть не верю, в бессмертие не верю и даже… в революцию не верю. Вы удивляетесь? Вы слышали меня на митингах? Это от отчаяния. Да, да, от злобы, что поверить не могу, так нате же, мол, вам: верю, буду верить – хочу верить и буду. Плачу, пулю готов в лоб пустить, а кричу, как фанатик… Сегодня со мной что-то делается. Вас вспомнил. Думаю: пойду скажу, что, мол, лгу я… Вы, ради Бога, молчите. Так нужно. Пришёл, выложил нутро и домой за дело… Вы нашли – ну и поздравляю вас. Прощайте. Всё это очень глупо, конечно.
Он встал и не прощаясь пошёл из комнаты. Из прихожей он крикнул мне:
– А ведь я вам новый козырь дал? Рады, поди…
Он был прав. Он действительно дал новый козырь. Кто говорит – единичным примером ничего нельзя доказывать, но мы не для доказательства и привели этот факт. Важно иногда уловить одну черту, чтобы сразу открылась вся подлинная действительность. В этом одном человеке, как в фокусе, отразилась вся психология нашего революционного движения. В нём всё то же искание неведомого, святого града265, мечтой о котором жил и раскол. Фанатизм этого движения, беспримерная сила самопожертвования, доходящая до жажды мученичества, истерическая, упрямая вера – это от нетерпения, от ревности, от мучительной, неутолимой жажды святого града. Пусть люди умирают, томятся в тюрьмах, бросают всё своё личное благополучие словесно из-за «демократической республики», для нас ясно, что за этими словами стоит жгучая грёза о всеобщем счастье, о какой-то высшей правде, которая всех примирит и искупит всю пролитую кровь. Брошюры, митинги, речи, отрицания всех сортов и видов, дерзкая бравада, всё, мол, найдено, всё доказано, узкая, досадно-пошлая, показная партийность – это одно. Это жертва какому-то бездушному, безличному богу Молоху, и тут же самая суть души, о чём постыдятся иной раз даже себе признаться, мятежное, неутолённое, мучительное искание святого града, скрытого за дремучим лесом266.