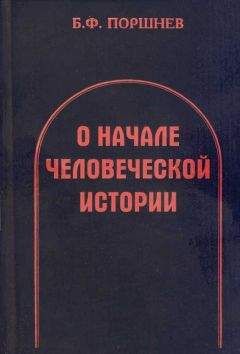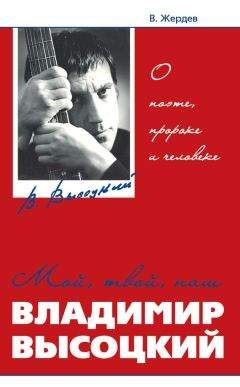Виктор Несмелов - Наука о человеке
С точки зрения эмпиризма, последнее основание всякой достоверности может заключаться только в приведении содержания мысли к содержанию чувственного опыта, потому что чувственный опыт полагается здесь не только исходным началом, но и единственным источником всякого действительного познания[61]. Это положение, разумеется, совершенно верно в том отношении, что всякий материал познающей мысли доставляется только опытом, и следовательно – самая возможность мыслительной деятельности несомненно определяется только наличностью опыта. Но выходя из опыта, мысль вовсе не останавливается на данных опыта, потому что работа познающей мысли заключается не в том, чтобы разбирать и связывать данные опыта, а в том, чтобы судить о них, т.е. раскрывать их реальное содержание и в этом раскрытии определять их объективные основы. Следовательно, познающая мысль стремится не к механической систематизации фактов сознания, а к разумному истолкованию этих фактов. В силу же этого стремления своего, она неизбежно выходит за пределы опыта, потому что она есть не отражение опыта, а истолкование отношения его к миру бытия. В процессе же этого истолкования она может утверждать такие положения, которые совершенно не согласны с данными чувственного опыта, и даже такие положения, которые находятся в прямом и решительном противоречии с этими данными. Чувственный опыт, например, постоянно говорит человеку, что мир наполнен цветами, звуками и запахами, а мысль утверждает, что все эти явления суть только продукты человеческого сознания, в самом же мире нет ни цветов, ни звуков, ни запахов. Чувственный опыт, например, постоянно говорит человеку, что солнце вращается около земли, а мысль утверждает как раз наоборот – что земля движется около неподвижного солнца. Конечно, все такие утверждения мысли делаются ею на основании опыта и в объяснение данных опыта, но все-таки они создаются самой мыслью, а не почерпаются ею из опыта, и потому именно, что они не почерпаются ею из опыта, они и не могут быть оправданы опытом. Видеть, например, не фиолетовый цвет, а 785 биллионов колебаний эфирных волн в течение одной секунды, видеть этого человек не может; и ощущать не какой-нибудь звук, а несколько сот или тысяч колебаний эфирных волн, ощущать этого человек не может. Следовательно, истинность или неистинность этих положений мысли ни в каком случае не может утверждаться на содержании ощущений, потому что мысль говорит или значительно больше того, чем сколько дано в ощущении, или даже совсем не о том, о чем говорят непосредственные факты ощущения. С этим положением вполне соглашаются даже такие крайне односторонние поборники эмпиризма, каким, например, заявил себя Льюис. "Невидимое, – говорит он, – не ограничивается такими предметами, которые никогда не представлялись чувству, хотя и могут представиться ему при каком-нибудь будущем случае; нет, этот мир содержит в себе предметы, находящиеся даже за этими возможными пределами, за пределами всякого возможного расширения чувства"[62]. Но откуда же в таком случае Льюис узнал о существовании этого мира, если он действительно лежит за пределами всякого возможного расширения чувства? Очевидно, он мог узнать об этом мире только из показаний мысли, а эти показания слагаются не из ощущений, а составляются из собственных соображений мысли по поводу тех данных, какие доставляются фактами ощущения. Следовательно, мы знаем не только о том, что ощущение говорит нам о чувственном, но и о многом другом, и так как это многое другое лежит за пределами всякого возможного расширения чувства, то проверить его состоятельность фактами ощущения, очевидно, совершенно невозможно, и эта совершенная невозможность в достаточной степени определяет собой глубокую правду рационализма.
Ввиду того, что всякая истина сознается и признается за истину только в суждениях ума, Декарт имел полное основание обратиться за отысканием критерия достоверности нашего знания к исследованию самой природы мысли. Это исследование доставило ему возможность определить основное правило достоверного познания в принудительном характере мышления о тех предметах, которые составляют содержание познания. Выдвигая эту принудительность мысли как самую высокую степень возможной достоверности, Декарт формулировал свое правило в таком положении: "Принимать за истинное лишь то одно, что с очевидностью познается мной таковым, т.е. избегать поспешности и предубеждения и утверждать в заключение лишь то одно, что никаким образом не может быть подвергнуто мной сомнению"[63]. На основании этого правила все то, что необходимо мыслится существующим, то и действительно существует, и все то, что одинаково может быть мыслимо существующим и несуществующим, то и в действительности может и существовать и не существовать, и, наконец, все то, что никаким образом не может быть мыслимо существующим, того и в действительности существовать не может. Рассуждать иначе о состоятельности своих выводов человек не может, а если он не может иначе рассуждать, то ясное дело, что он не может иначе и познавать. "Немыслимость отрицания данного познавания, – говорит один из новейших защитников этого критерия, – есть тот признак, который показывает, что это познавание принадлежит к самому высокому рангу; это есть тот критерий, в силу которого мы узнаем состоятельность познавания, состоятельность самого высокого возможного характера"[64]. Если реальность известного познания мыслится необходимо, то само собой разумеется, что возражать против реальности этого познания абсолютно невозможно, потому что такое возражение показывало бы не-необходимость необходимой мысли, что само по себе немыслимо. И если реальность известного познания мыслить совершенно невозможно, то само собой разумеется, что утверждать эту реальность значит представлять мыслимым совершенно немыслимое, что само по себе немыслимо. Следовательно, критерий Декарта заключает в себе непререкаемую силу убедительности, и он несомненно был бы единственным критерием достоверности, если бы только вся сумма наших познаний слагалась из противоположностей необходимо мыслимого и совершенно немыслимого. В действительности, однако, громаднейшая часть наших познаний лежит в середине между этими противоположностями и ради проверки только еще должна быть приведена в состояние необходимой мыслимости или совершенной немыслимости. Следовательно, к этой части наших познаний критерий Декарта совершенно неприложим, а это обстоятельство само собой говорит об его очевидной недостаточности. Критерий истинен, потому что в оценке своих познаний человек не может опираться ни на какой другой критерий, как только на этот, но он недостаточен, потому что непосредственно он не определяет собой состоятельности или несостоятельности всякого познания, а посредственное приложение его может оказываться ложным. Известно, например, что в разные эпохи человеческого развития высказывалось не мало таких положений, которые в свое время считались необходимо мыслимыми или абсолютно немыслимыми и которые, однако, с расширением познаний перестали быть необходимо мыслимыми и абсолютно немыслимыми, и одни из них оказались ложными, а другие – истинными. Было время, например, когда люди совершенно не могли вообразить себе существования антиподов и на этом основании мысль о шарообразной форме земли считали величайшей нелепостью, и, однако же, это немыслимое постепенно сделалось мыслимым, и его достоверность не подвергается теперь ни малейшему сомнению[65]. Можно ли в таком случае отстаивать критерий необходимой мыслимости как действительный критерий достоверного познания?
Спенсер решился отстаивать. В ответе Миллю, при новом издании своей психологии, он решительно отверг силу всех, приведенных против его мнения, возражений на том основании, что люди неверно считали некоторые познания свои необходимо мыслимыми или совершенно немыслимыми, т.е., в сущности, он ровно ничего не отверг, а только возбудил вопрос об особых правилах приложения своего критерия необходимой мыслимости к тем или другим познаниям. "Те предложения, – говорит он, – которые ошибочно принимались за несомненные вследствие того, что они будто бы выдерживали испытание посредством признаваемого мной критерия, были предложения сложные, к которым этот критерий неприложим, а само собой разумеется, что никакие заблуждения, возникающие из неправильного приложения этого критерия, не могут считаться говорящими против правильного его приложения"[66]. Правильное же приложение критерия необходимой мыслимости на самом деле ограничивается только простейшими формами мысли, в которых утверждается лишь простое соотношение между двумя предметами или между данным предметом и его предикатом. Например, что данная линия А больше данной линии В, это я могу утверждать на основании немыслимости иного отношения, кроме данного, потому что, – говорит Спенсер, – я нахожу невозможным в продолжение всего того времени, пока я созерцаю данные линии, отделаться от сознания этого различия между А и В, но что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других сторон прямоугольного треугольника, этого я не могу считать немыслимым, потому что непосредственно такого отношения в воззрении не дается, а критерий необходимой мыслимости имеет свою силу именно в том единственном случае, когда "мы непосредственно видим, что утверждаемое отношение действительно таково, как оно утверждается, и что невозможно мыслить его по другому"[67]. Следовательно мыслимость или немыслимость всякого познавания как объективно-истинного в конце-то концов сводятся лишь к фактической данности или неданности или просто к чувственной самоочевидности.