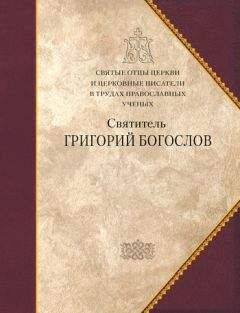Павел Хондзинский - Святитель Филарет Московский: богословский синтез эпохи. Историко-богословское исследование
Доктринальная суть новой школы изложена в «Пролегоменах» к «Theologia Christiana» преосвященного Феофана, представивших слово
Божие как единый источник богословия и резко разграничивших Откровение (или Божественное богословие) как объективную данность и научное богословие как изучающий ее субъект. Находящееся, собственно, «между ними» предание было объявлено подверженным «предвзятым мнениям» и подлежащим критике научного богословия на предмет соответствия его – предания – Писанию[460].
Если данная схема была, вполне возможно, заимствована преосвященным Феофаном у протестантов, то у них она отвечала перенесению на слово Божие функций Церкви как источника богообщения[461]. При этом неясная сакраментология протестантизма склонялась именно к тому, чтобы отказаться от мысли об освящении мира в принципе, что согласовывалось с общим ходом секуляризации или десакрализации Запада. Реакцией на последнюю в конечном счете и явился постулат о возможности внецерковного обожения или, по-другому, освящения через обожение (а не наоборот – как в Церкви); или – вхождения в Церковь небесную – «невидимую» помимо Церкви «видимой» – земной[462].
Однако в России, при наличии де-факто церковной жизни и научное богословие не могло обойтись без сакраментологии и чувствовало необходимость разграничиться в этом вопросе с протестантами. Даже сжатое до минимума определение Церкви из «Начального учения отроком» помимо пункта о вере, познаваемой из слова Божия, содержит пункт о Таинствах и иерархии, что отвечало двоякой цели Феофанова богословия, сводящейся к богопознанию (через слово Божие) и богопочитанию (через сакраментальное служение).
Таким образом, устанавливались два равнозначных по важности источника церковной жизни (Писание и Таинства). Их единство подчеркивалось постулатом о том, что и то и те в равной же степени являются подателями благодати Христовой. Писанию в этом смысле отдавалось даже первенство, подкреплявшееся, судя по всему, авторитетом блаженного Августина («таинство есть как бы видимое слово»), хотя последний в данном случае разумел не конкретно слово Писания, но вообще «слово веры» (verbum fidei), которое «столь могущественно в Церкви Божией, что через того, кто верует… очищает младенца, пусть еще и не сильного сердцем веровать в правду, устами же исповедовать во спасение»[463].
Утверждалось далее, что Таинства суть знаки «не просто… указующие, но и μεταδοτικά»[464] – сообщающие. Однако с этим утверждением, никак не раскрытым[465], плохо сочетались: 1) недостаточное различение Таинств ветхо- и новозаветных; 2) ощутимая десакрализация церковной жизни, подкреплявшаяся страхом «обожествить вещество»[466]. В результате оказывалось, что призванный отсечь суеверия «скальпель» научного богословия рассекал небесное и земное в жизни Церкви.
Такова была богословская латиноязычная платформа школы, на основании которой развивалось уже «открытое» богословие.
В этом поле можно наблюдать, как постулаты школы преломляются при соприкосновении с жизнью, и нельзя не признать, что школа, отодвинувшая на второй план авторитет преданий, расчистила это поле для того, чтобы запросы современности получили на нем свое разрешение. Сам преосвященный Феофан, впрочем, все усилия направил на спекулятивное выведение из Писания идеи абсолютной власти монарха, в подчинении которому должна пребывать и церковная иерархия.
Ему наследует круг церковных авторов, с одной стороны, вслед за ним стремящихся дать библейское обоснование современной государственной и общественно-церковной жизни (святитель Георгий, митрополит Платон, архиепископ Анастасий), с другой – приходящих к мысли о необходимости (также выводимого из Писания) «внутреннего» христианства как альтернативы разрушенному церковному быту (прежде всего святитель Тихон, архиепископ Анастасий; в меньшей степени митрополит Платон). Ими был, таким образом, поставлен вопрос о возможности обожения в миру[467], и уже это было несомненным выходом за рамки научного богословия.
При этом экклесиология и сакраментология у этих авторов разработаны, как правило, слабо и не превосходят Феофанову, рассмотрение же церковно-государственных отношений приводит к мысли не столько о воцерковлении и «освящении» жизни общества, сколько об обожествлении государства, что в результате сводится практически к разделению функций освящения и обожения соответственно между государством и Церковью (особенно заметно у Братановского). Но это перенесение некоторых черт Церкви на государство вызвало обратную реакцию, и «Некоторые черты о внутренней церкви» Лопухина суть во многом ее порождение[468].
Действительно, насильственное отделение жизни церковной от жизни гражданской болезненно затронуло именно представителей «гражданского общества», с одной стороны, переживавших это разделение как неутоленный духовный голод, с другой – не готовых искать его утоления в церковности и в Церкви, «правление» которой казалось им «ныне больше учреждением политическим».
Писатели этого круга (Лопухин, Лабзин) тем более обращают внимание на недостаточность «внешнего» христианства и также ратуют за необходимость нравственного внутреннего возрождения. Характерно, что именно они поднимают вопрос о Церкви, не находя, очевидно, его удовлетворительного разрешения в богословии школы (представителей которой «спасала» в этом отношении прежде всего врожденная бытовая церковность). А поскольку современная Церковь видится им слишком далекой от предносящегося идеала [469], постольку они стремятся выстроить свою «надцерковную» экклесиологию. В ней, с одной стороны, поиски всеобщей мудрости заставляют их прийти к мысли о «иероглифичности» Таинств, с другой – там, где они говорят о новой связи духовного и телесного начал, являющейся следствием боговоплощения, их воззрения основываются на пантеистическом представлении об излиянии «телесности» Спасителя в мир.
В области аскетики и авторы школы, и мирские мыслители прибегают к сочинениям западных писателей (Арндт, Фенелон и т. д.). В отношении вторых это, скорее всего, объясняется тем, что православная аскетическая письменность им просто неизвестна – характерно, что, узнавая о ней, они тут же стремятся включить ее в орбиту своих рассуждений. Авторы школы, очевидно, не представляют, как известные им сочинения отцов древности могут быть приложены к реалиям сегодняшней жизни.
Таким образом, исторически новые условия бытия Церкви (в известном смысле уникальные для православия вообще) поставили и новые задачи перед богословием освящения. Раньше Божественная жизнь зримо открывалась в храмовом богослужебном пространстве-времени, в красоте иконы, проецирующейся в конкретные формы земной жизни. Теперь даже и на Писание школа смотрела лишь как на формальный объект научного богословия, а представление о «слове-знаке» (завесе, по определению митрополита Платона) оставляло в совершенном недоумении относительно того, какое живое отношение этот знак имеет к стоящему за ним (и скорее скрываемому, чем открываемому) Божественному бытию. Именно поэтому так легко распространились тогда западные учения об обожении помимо освящения, ведь и церковные учителя легко соглашались с тем, что «знак не может быть без вещи означаемой, но вещь означенная может быть и без знака»[470]. Следствием этого был обнаружившийся разрыв между обожением и освящением вообще, осознанный также как противоречие между внутренней и исторической Церковью.
Иными словами, чтобы работать со словом Божиим как познаваемым объектом, научное богословие очевидным образом было вынуждено десакрализовать его. Однако жизнь (история) Церкви сакральна, поэтому богословский дискурс оказался не соотнесенным с нею[471]. Следовательно, с точки зрения богословия корень всех противоречий и проблем XVIII столетия позволительно свести в конечном счете к одной, главной: противоречию между представлением о слове Божием как сущностном основании не только богословия, но и сакральной жизни Церкви и одновременной десакрализацией его как предмета научного богословия.
Остается указать на того, кто разрешил ее.
Глава вторая
МЕТОД
Понятие метода в науке слишком многопланово, чтобы не определить заранее, что будет разуметь под ним автор. Преосвященный Феофан считал, что метод богословия есть «упорядоченное и согласное с сутью самого предмета, последовательное расположение того, что должно быть изложено»[472]. Однако не система богословия, а принципы богословской работы святителя Филарета будут занимать нас в дальнейшем. Установив их, я надеюсь показать, что именно они позволили святителю разрешить богословские коллизии предшествующего столетия.