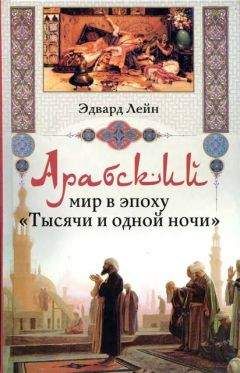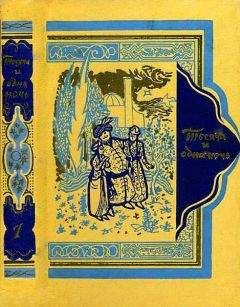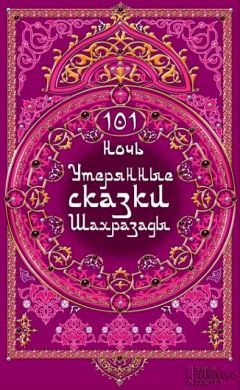Фёдор Степун - Бывшее и несбывшееся
Сидя у постели умирающей матери и навсегда прощаясь с ней, я с беспредельной тоскою смотрел на ее прекрасную голову, на ее лихорадочное лицо в высоких подушках. Спала ли она, или только делала вид, что спит, бредила ли во сне, или в тяжелой полудремоте разговаривала сама с собой — я сказать не могу.
Ничего смутного, бредового в ее последних словах не было. Но не было странным образом ни одного слова о детях и о Москве. Очевидно, мама умирала в полном отрешении от прожитой жизни, умирала в напряженном созерцании последнего, еще предстоящего ей на этой земле события: своих собственных похорон. Она шёпотом кому–то рассказывала об этом — ей виделся яркий, осенний день, обилие цветов вокруг гроба. Вероятно, ей слышалась и музыка — изредка она приподнимала голову и как будто к чему–то прислушивалась.
Последние три дня мама уже ничего не говорила, только тяжело дышала; мы думали, что она находится в бессознательном состоянии. Но это оказалось неверным: когда Наташа нагнулась к ней, чтобы поправить подушку, по ее лицу пробежала тень недовольства, как бы скорбная досада, что ей помешали в чем–то большом и важном. Мне вспомнились торжественные слова Жуковского на смерть Пушкина:
Что–то сбывалось над ним…
И спросить мне хотелось: что видит?
Хотелось спросить и мне, — я и спрашивал несколько раз — но мама молчала, быть может, от того, что предсмертные видения невыразимы на нашем человеческом языке.
Отошла мама без последнего взгляда, без последнего слова, даже без последнего вздоха, незаметно перестала дышать и погасла.
Я всем говорил и писал о тихой, безболезненной кончине, но была ли эта кончина такой — я не знаю. Ведь мы, остающиеся, переживаем смерть, как спускающийся над жизнью занавес; того же, что подымается за ним в душе умирающего нам постичь не дано. В этой непостижимости смерти и коренится наш неизничтожимый страх перед ней…
Несмотря на полицейские законы, покойница целых трое суток оставалась у нас в квартире. Со стен опустевшей комнаты на нее, без малейшего изменения лиц, смотрели портреты детей и друзей.
Сообщить о маминой смерти в Москву во время войны было невозможно, осталось невозможным и после окончания войны.
Я и днем и ночью подолгу просиживал у гроба, внимательно всматриваясь в непрерывно меняющееся лицо умершей, от которого исходил ни с чем несравнимый потусторонний холод. Эти быстрые изменения были не только разрушением знакомого лица, но и созиданием нового, более молодого, светлого и как будто бы даже более живого. Хотелось верить, что умершая уже видит перед собою тот кроткий, любящий Лик Божий, в который при жизни, как ни старалась, не могла поверить.
Большой помощью в эти тяжелые дни было присутствие отца Михаила; он приехал на следующий же день после смерти мамы и целую неделю прожил у нас. Не знаю, как бы я дожил до похорон без его тихих панихид и полуночных чтений.
День похорон выдался таким, каким он предчувствовался мамой: теплым, светлым, поздне–осенним днем. Просторная кладбищенская часовня была полна народу: присутствовала почти вся русская колония и все наши немецкие друзья и знакомые — профессора, художники, музыканты и очень много молодых женщин и девушек. Все были искренне тронуты, взволнованы, многие глубоко потрясены. Безразличных посторонних лиц и обычных оживленных разговоров в конце траурной процессии на маминых похоронах не было. Это было ее большой и личной заслугой.
Хоронил я маму по протестантскому обряду, стараясь придать ему тот утраченный современностью строгий характер, за который Тютчев так любил богослужения лютеран:
Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, чинный и простой…
Короткое органное вступление, виолончельное соло Баха, проповедь бледного, строгого, узколицего пастора на душевно–близкую мне тему «Верую, Господи, помоги моему неверию» и снова Бах в исполнении органа.
Особенностью маминых аскетически–строгих похорон было то, что у изголовья утопающего в цветах гроба стоял весь просветленный, светловолосый отец Михаил.
Так как для меня всегда было нечто непреодолимо грустное и тревожное в том, что протестантизм не знает молитвы об усопшем, я испытывал большое утешение от присутствия отца Михаила. В то время, как пастор глубокомысленно говорил о трагедии маминой религиозной психологии, отец Михаил про себя молился о ее упокоении со святыми, прося Бога сотворить ей вечную память.
По окончании службы покрытый венками гроб медленно выплыл из прохладно–мрачной часовни в яркий, багряно–синий ноябрьский полдень. Перед гробом сосредоточенно шел в черном облачении пастор де Гааз, — а за гробом светлый восторженный отец Михаил. За ним мы с Наташей и самые близкие мамины и наши друзья, не всегда одни и те же. За нами шли густой колонной все остальные.
Стоя на песчаном холмике перед открытой могилой, в которой виднелся гроб, де Гааз сказал несколько напутственных слов, прочел еще раз «Отче наш» и первым протянул руку к плетеной корзиночке, в которой находилась та сезонная смесь осенних цветов, елочьих лапок и иммортелей, которую, в оскудевшей символическим мышлением Европе, легковесно бросают в могилу, не замечая, что падающие на крышку гроба веточки не порождают отзвука могилы на наш последний обращенный к умершему прощальный привет.
За пастором стали подходить все остальные. Немцы, вслед за пастором бросали в могилу цветы и веточки, русские нагибались и бросали на крышку гроба по три пригоршни земли.
Вдруг на ярко залитом солнцем молодом дубе, под которым была вырыта мамина могила, внезапно раздалось смелое и громкое пенье какой–то неизвестной мне по имени, но с детства знакомой по мелодическому посвисту, птицы. Папа, вероятно, сразу же назвал бы ее.
Это было настолько неожиданно, что все переглянулись и стали прислушиваться к пению.
— А знаете, это ведь неспроста, — подошел ко мне отец Михаил. — Недаром Мария Федоровна родилась под Благовещение и с детства любила выпускать пташек на волю, сколько раз она мне это рассказывала. Вот она и прилетела за всех поблагодарить покойницу.
Я с глубокой благодарностью посмотрел на отца Михаила и живо увидел перед собой шумно торгующую Трубную площадь, а на ней, рядом со своими озорными братьями, страстно увлекавшимися голубиной охотой, турманами и чужаками, тихую, крутоплечую девочку с высоким умным лбом и большими печальными глазами, взволнованно покупающую на подаренный полтинник двух жаворонков и тут же выпускающую их на волю: «летите, летите». Она никого и ничего не видит и в восторге хлопает в ладоши…
О своей любви к птицам, к их песням и крыльям, мама не раз рассказывала мне, в последний раз в день своего восьмидесятилетия, причем мне всегда казалось, что ее страстная любовь к птичьей воле была лишь обратной стороной ее ненависти ко всяческого рода угнетению. Она была не только свободолюбивым, но и анархически своевольным человеком. Всякое подчинение претило ее душе. Быть может она и Бога не принимала потому, что боялась подчиниться Ему.
Хотя мама умерла на 81–м году жизни, за четыре года до изничтожения Дрездена английскими бомбами и захвата его большевиками, то есть умерла по человеческому разумению — вовремя, ее смерть вечным мраком легла на мою душу.
Пожилой человек, теряющий мать, сразу же вплотную приближается к смерти.
Большие события часто подкрадываются неслышною поступью; вдруг пересекают дорогу. Так случилось и с нами. Отстояв в Московском Земотделе Ивановку, мы с Наташей рассчитывали на первую, после революции, спокойную зиму.
Но вот кто–то случайно принес с почты письмо от моей сестры из Москвы. Сестра писала, что в нашей комнате был обыск, но, что кроме журнала с портретом Керенского и моей статьей, ничего предосудительного не нашли; после обыска ее и некоторых жильцов допрашивали о том, у кого мы с Наташей бываем, приезжая в Москву и кого принимаем у себя.
В приписке сестра сообщала, что такие же обыски были за последние дни произведены у целого ряда философов и писателей, что по Москве ходят слухи, будто бы «религиозников» и «идеалистов» будут в ближайшее время высылать за границу, скорее всего в Германию.
Через несколько дней пришел вызов в Чека. Сразу же почувствовалось: что–то переломилось в жизни, что–то кончилось и что–то началось, но что? Как ни заманчива была высылка в свободную Европу, она все же не радовала. За годы революции душа крепко привязалась к Ивановке, к дому, к саду, ко всем ее обитателям, с которыми было столько пережито тяжелого и страшного, но и радостного, светлого. Был я также почему–то уверен, что если вышлют, мы по возвращении не застанем в живых ни моей матери, ни Наташиных родителей.
Возникали и другие вопросы: разве можно верить Чека? Разве можно знать, не сознательно ли пущен слух о высылке, чтобы вынудить откровенные признания; да и зачем высылают? Быть может, предложат взять на себя некоторые обязательства по научно–философской защите Советов перед общественным мнением Европы? Да и всех ли выпустят? Быть может, Бердяева, Булгакова, Франка в самом деле отправят за границу. При своем ярко антисоветском настроении, они все же никогда действенно не боролись с большевизмом, только писали против него; но выпустят ли меня?