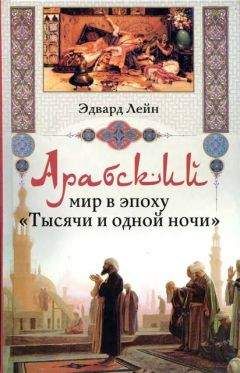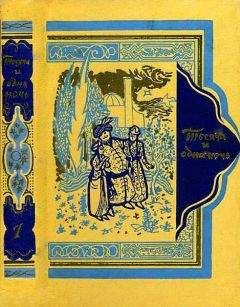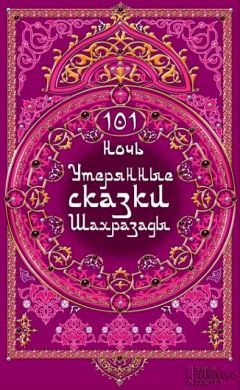Фёдор Степун - Бывшее и несбывшееся
— Нет, ей вечной, да еще светлой памяти не надо; она хочет воспоминаний живых, горячих, трепетных и даже разрушительных. Разрушения своей души ей бояться не приходится, так как она только тогда и живет, когда умирает от тоски по прошлому.
Этот, во всех своих подробностях навек запомнившийся мне страшный разговор, был моей последней попыткой спасти маму от наступающего на нее душевного недуга, наследственной тяжелой меланхолии. После этого разговора я подчинился маме, отказался от всякой педагогики и питал ее тем разрушительным счастьем, которого она только и жаждала. Наши вечера воспоминаний превратились для неё в наркотики; прав ли я был, я не знаю, но в те трудные и скорбные дни я не видел иного исхода ни для нее, ни для себя.
Втайне души своей мама все же ждала Божьей помощи: на ночь подолгу читая Евангелие, пыталась молиться, но не могла, так как не могла прекратить своей тяжбы со Всемогущим Богом, в любовь которого к человеку она не верила. Мои богословские размышления о связи зла со свободой воли она по–прежнему называла богословски–юридическим крючкотворством.
Несмотря на такие настроения, она охотно беседовала со священниками. Никогда не лечась, она также всю жизнь любила разговаривать с врачами. У нее часто бывал очень тонкий человек, глубокий богослов, горячий приверженец литургического движения в протестантизме, пастор де Гааз. Кроме него, заходил к ней и священник нашей дрезденской церкви, отец Михаил, человек светлой веры и горячей души, которого мама очень любила за то, что он, не пытаясь переводить ее в православие, искренне старался облегчить ее душевные муки и благотворно действовал на ее бунтарскую душу.
О глубине и таинственности маминой связи с отцом Михаилом мы узнали уже после ее смерти. Почувствовав на утреннем молитвенном поминании, что для «дорогой Марии Федоровны» приходят последние сроки (отец Михаил был к тому времени переведен в Берлин), он прислал к нам приходскую сестру справиться о мамином здоровье и передать ей пакетик настоящего кофе, очень по тому времени ценный подарок.
Узнав о маминой смерти, о. Михаил немедленно приехал к нам и тут рассказал, что мама взяла с него слово быть на ее похоронах.
Вероятно, то тяжелое, временами явно больное душевное состояние, в котором мама находилась в последние четыре месяца до своей смерти, носит у психиатров вполне определенное латинское название. Меня это мало интересовало. Для меня мамина ненормальность заключалась в ежедневно возрастающем в ней и, в сущности, вполне мне понятном нежелании жить, а потому и в нежелании считаться с надоевшими ей правилами неискреннего человеческого общения. Наблюдая за ней, за ее замыканием в себе, я иной раз думал, не есть ли полное одиночество корень всякого безумия? Мамино одиночество выражалось главным образом в том, что она стала вдруг со всеми абсолютно откровенна и тем всех отпугивала от себя; так призванному мною врачу психиатру, который, считая ее истеричкой, неожиданно повысил на нее голос, она совершенно спокойно посоветовала бросить медицину и поступить в полицию; другому, милому, тихому, лирическому психиатру, который в таинственном полумраке своих успокоительно обставленных комнат, лечил ее смесью психоанализа и гипноза, она с лукавой улыбкой заметила, что охотно ходит к нему и понимает, что главный двигатель его практики деньги, а основной метод — шарлатанство. Доктор так опешил, что откровенно признался мне, что мама как пациентка ему не под силу. Такие же вещи говорила она и мне и Наташе.
За последние месяцы маминой жизни между нею и мною начали складываться какие–то совсем новые отношения. Предчувствуя близость смерти, мама все нежней, все ревнивей относилась ко мне. Но несмотря на эту растущую любовь, она все ощутимее отходила от того пятидесятисемилетнего человека, которым я жил рядом с ней, и все горячее привязывалась к тому мальчику, студенту–подростку Феденьке, которого она постоянно искала, но, как ей казалось, все реже находила во мне. Иной раз в разговорах с нею я с болью чувствовал, что она скорбит о том, даже сетует на меня за то, что вот я вырос, что изменил свой внешний облик и свой внутренний мир. В такие минуты она даже и мне могла говорить вещи, в которых потом горько каялась.
Нет чувства более тяжелого, чем чувство полной беспомощности перед страданиями бесконечно дорогого тебе человека. При всей своей любви, при всем своем жизненном опыте, я ничем не мог помочь маме, а вот пятилетний Феденька, если б он только мог, верхом на палочке, неожиданно вбежать в ее дрезденскую комнату, сразу вылечил бы ее от всех бед.
Недель за шесть до смерти мне удалось уговорить маму пройтись прогуляться: уж очень хорош был осенний день, уж очень давно она не дышала свежим воздухом. По дороге я предложил зайти к соседям, милым людям, которые ей нравились и к которым она до болезни охотно заходила. Хотелось хоть на самое короткое время развлечь ее, снять с ее души постоянно лежащий на ней гнет. К моему удивлению, мама сразу же согласилась.
При входе в переднюю мы услышали приглушенное радио. Низкий женский голос пел по–французски старинную песенку, очевидно, последний куплет. «Постой, постой, — внезапно оживилась мама, передавая горничной шляпу и перчатки, — это что–то очень, очень знакомое». Войдя в гостиную, она наскоро поздоровалась с хозяйкою дома, очаровательной французской швейцаркой, известной в молодости певицей, и ее мужем, датчанином, и быстро подошла к роялю.
Ее тяжелое, уже омраченное болезнью лицо неожиданно порозовело, скорбная глубина глаз вдруг просветлела и с губ слетела пленительная улыбка. Опустив руки на клавиатуру, как будто в забытье она быстро подобрала аккомпанимент и совершенно очаровательно, игриво и грустно спела, не пропустив ни одного слова, все четыре куплета старинной французской песенки, которую она десятилетней девочкой слышала, взобравшись на дерево у забора Летнего сада, где пела знаменитая французская шансонетка.
Хозяева были в восторге, как от маминого пения, так и от живости, с которой она, после своего неожиданного выступления, рассказывала за чайным столом о своем сиротском детстве, о бесшабашных старших братьях, о старой Москве и особенно почему–то подробно о том потрясающем впечатлении, которое на балу у Сухотиных, во время мазурки (ей шел уже двадцатый год) произвело на всех присутствовавших внезапно пришедшее известие об убийстве Александра Второго.
Провожая нас, хозяева поздравляли меня с очевидно наступившим переломом болезни, с начавшимся выздоровлением. Это было, конечно, большой ошибкой. Признаком выздоровления могло бы быть лишь проявление хотя бы малейшего интереса к настоящему и будущему, а никак не полное погружение в прошлое. Ведь в этом погружении и состояла, личными мамиными свойствами предельно обостренная общебеженская болезнь — ностальгия, особенно опасная у активных политических эмигрантов, не понимающих, что мечтательный вальс «Невозвратное время» не превратим в воинственный марш «Счастливое будущее».
Умерла мама, в сущности, без диагноза. Пользующие ее врачи не находили никакой определенной болезни. Лишь за три дня до смерти поднялась температура, начиналось как будто бы воспаление легких.
Вспоминая во всех подробностях историю маминой болезни, я не мог отрешиться от мысли, что она своим нежеланием жить сама погубила себя. Сначала она наотрез отказалась выходить из дому, говоря, что ей опротивели человеческие лица, потом отказалась выходить из своей комнаты и принимать людей у себя. Докторов она встречала страшным протестом, не отвечала на их вопросы и не разрешала выслушивать себя, говоря, что ей выздоравливать незачем.
Сильное ухудшение началось с отказа принимать пищу. Лишь хитростью и ловкостью удавалось Наташе питать ее. Изнурив себя недоеданием, мама без признаков физической болезни легла в постель. Ее расстроенный долгой жизнью, многими родами и болезнями, но от природы очень сильный и здоровый организм, длительно не подчинялся ее разрушительной воле, но постепенно начал сдаваться. Одновременно с убылью физических сил, шла убыль и душевных — не сдавались только три чувства: безумная любовь к детям, в особенности, ко мне, упорное нежелание жить и непередаваемый ужас перед смертью.
Тех замученных, испуганных глаз, с которыми она умоляла меня не засыпать, когда я на ночь устраивался у нее на диване (сестер милосердия мама к себе не допускала) мне никогда не забыть, разве только перед смертью, когда и у меня, быть может, будут такие же глаза. Самое страшное в смерти — это предсмертное прохождение через полное одиночество.
Сидя у постели умирающей матери и навсегда прощаясь с ней, я с беспредельной тоскою смотрел на ее прекрасную голову, на ее лихорадочное лицо в высоких подушках. Спала ли она, или только делала вид, что спит, бредила ли во сне, или в тяжелой полудремоте разговаривала сама с собой — я сказать не могу.