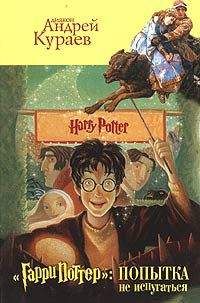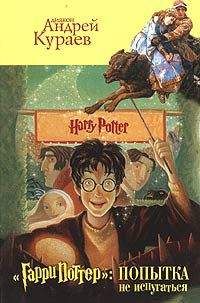Андрей Кураев - ПЕРЕСТРОЙКА В ЦЕРКОВЬ
Олав девять лет служил в новгородской дружине киевского князя Владимира.
Однажды во сне ему было откровение: «Небесный голос призвал его для познания истинного Бога отправиться в Византик». Он отправляется в Грецию, получает там знамение креста (prima signatio) от греческого епископа Павла, которого он просит отправиться с ним, дабы крестить язычников-русских. Епископ, «великий друг Божий», согласился, но просил Олава ехать вперед и уговорить правительство конунга Вальдамара разрешить ему насаждать в Гардарике христианство.
Вальдамар сначала решительно воспротивился изменить вере отцов. Но жена Вальдамара вняла истине и переубедила его. Умирающая старуха-мать Вальдамара предсказала, что Олав окончательно обратит Вальдамара в христианство (по мнению академика Шахматова, мать Владимира, жена Святослава, Малафреда (Малуша), уже была христианкой). Сам же Олав, согласно версии отдельных источников, вновь отправился в путь и в 993–995 гг. у берегов Ирландии сам принял окончательное крещение и крестил народ свой[979].
В этой истории важно разделение времени оглашения и крещения (и для конунга Вальдемара и для Олава). И — уже знакомый нам мотив передачи веры от варваров к варварам.
Немало аргументов и просто материалов для размышления можно найти через изучение русской миссии XIX–XX веков. Помимо архиерейского совещания в Казани в 1885 году, до революции прошли еще пять миссионерских съездов: 1-й миссионерский съезд состоялся в Москве в 1887 году; ll-й — там же в 1891; Ш-й — в 1897 году в Казани; IV-й — в 1908 году в Киеве (он собрал 600 человек!); V-й в июле 1917 года в Бизюковском миссионерском монастыре Херсонской губернии. Знакомство с их материалами необходимо для историка православной миссии (хотя и малоплодотворно для реального миссионера — ибо разговор на этих съездах преимущественно шел о подавлении староверия). Но и ошибки той миссии тоже важно знать, чтобы избегать их сегодня (к числу ошибок я отношу пожелание этих съездов насытить школьные программы все новыми и новыми антисектантскими уроками — от анти-староверческих и «противомагометанских» до анти-католических и анти-социалистических).
Очень интересно найти и исследовать эпизоды миссии в советский период. И в лагерях — исповедниками и новомучениками. И на свободе, и за пределами СССР. Сергей Фудель, Владимир Марцинковский, отец Сергий Желудков, священник Дмитрий Дудко, митрополит Антоний Сурожский… Не стоит гнушаться и знакомством с апологетико-миссионерским опытом обновленцев. Конечно, требует внимательного изучения и миссионерский опыт современиков — отцов Александра Меня и Георгия Кочеткова, Игнатия Лапкина. Примечание их ошибок[980] не должно заслонять того доброго, что было обретаемо ими в их поиске.
Причем разговор о миссионерстве в советские времена предполагает и рассмотрение не-диссидентского миссионерства. Была ведь «инкультурация миссии» и применительно к советской культуре. Вот рассказ митрополита Питирима (Нечаева): «Я прошел всю советскую школу с марксизмом и политэкономией, так что на этом мог иногда и сыграть. Так, например, у Куроедова был первый зам, с которым были определенные проблемы. Однажды я, как директор церковного издательства, вел с ним беседу. Зашел разговор о патриархе Тихоне, его отношениях с Советской властью, и тут этот зам дал мне замечательный "мяч". "Ну, что вы лояльно относитесь к Советской власти, мы не сомневаемся". Я сделал паузу и говорю: "Знаете, вы меня оскорбили! Я вам этого не прощу!" Он, человек из центрального аппарата, "чуткий", сразу заволновался: "Как? Как я вас оскорбил?" — "Вы назвали меня лояльным, а я — нормальный", — сказал я. И прибавил: "Более того, у меня перед вами есть преимущество. Вы родились при царе, а я — при Советской власти". С тех пор у меня с ним проблем не было»[981].
Это часть более широкой темы: миссия в социальных элитах. Интересно было бы подумать над миссией Церкви среди расхристанного русского дворянства XVMI–XIX веков[982].
Еще незанятая тема для исследований — русские богословы в русских университетах XIX–XX веков.
И, конечно, греческая православная миссия в Африке, начатая в 50-х годах XX века.
Кроме того, пора отделить сектоведение и миссиологию. На первых уроках протестантов нужно критиковать[983]. А вот на вторых надо по-доброму присматриваться — отчего же их миссии столь успешны. Может, и нам что-то можно от них взять?
Аналогично и к католической миссии, ее истории и современности надо присматриваться не только для того, чтобы что-то «иезуитское» осудить. Кстати, и слово «инкультурация миссии», столь часто (и верно) звучащее сегодня в устах председателя Синодального Миссионерского отдела архиепископа Иоанна — когда-то было пущено в ход именно иезуитами[984].
— Для самой Церкви насколько значимо ее миссионерство?
— Миссионерство не есть нечто второстепенное в жизни Церкви. Миссионерство есть образ существования Церкви как таковой.
Христианство — религия социальная. Оно не просто провозглашает целью восхождение человека на небо. Оно говорит, что у человека еще есть определенные обязанности и дела на земле. Не одна заповедь дается людям, а две. Любовь к Богу и любовь к человеку[985]. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф 18:20). Бог, Который Сам есть Троица, дарует Свою любовь не одинокому беглецу, вдали от людей совершающему свою мистическую авантюру, а собранию, сообществу, людям. Подобное познается подобным. Бог есть любовь[986]. И то, что Он есть любовь, может быть познано только тем, у кого уже есть опыт любви. Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? (1 Ин 4:20).
Важнейшее же пожелание любви — пожелание вечного со-бытия, вечного нерасставания, то есть пожелание спасения. Христианство — миссионерская религия. Ни один христианин не имеет права считать себя последним христианином на земле. Никто не может полагать, что Евангелие прошло сквозь века и сотни поколений лишь для того, чтобы достигнуть его ушей — и на этом замереть. Не надо захлопывать дверь в Церковь за своей спиной. Истина, поведанная нам, обжигает руки и требует, чтобы ее передали дальше.
— Известно, что есть два подхода к миссионерской деятельности. Согласно первому, необходимо вовлекать в Церковь неправославных людей, говорить на их языке, не бояться, идя к ним навстречу, делать первые шаги. С другой стороны, есть подход, согласно которому лучше блюсти «чистоту рядов», и всех сомнительных людей надо держать подальше, не ассоциировать с Церковью. Ваш взгляд на эту проблему.
— Ну уж нет, это не «два подхода к миссионерской деятельности». И это не различие двух школ миссиологической мысли. Нет тут полемики между модернистамимиссионерами и традиционалистами-хранителями.
Это вполне банальное различение между Homo faber (человек умеющий) и неумехой.
Тот, кто не смог найти понимания с нецерковной молодежью, тот склонен говорить, что, мол, и не надо этого делать.
Есть люди, не умеющие общаться за пределами храма. Среди этих людей не-миссионерского склада есть люди замечательные и просто святые. Есть хорошие духовники, богословы и литургические проповедники. У них есть одни дары и нет другого дара — дара миссионерства, в перечне их талантов все же не обретается таланта общения с «внешними» людьми. А если еще у такого человека недостает смирения, чтобы признаться перед самим собой в этом своем несовершенстве, вот тогда и начинается внутрицерковная полемика. Вместо того, чтобы поставить диагноз себе, начинается канонизация собственной инвалидности[987].
Мол, если я не представляю себе, как я мог бы проповедовать на рок-концерте, то и у других церковных людей этого получиться не может. Кто не смог разглядеть христианский лучик в толще современной молодежной культуры, говорит — да нет там ничего, сплошной мрак и сатанизм…
Эта собственная неспособность кажется им всеобщей. Из «я не могу объяснить» очень легко сделать вывод «они не хотят слушать». Частную неудачу своей не слишком-то настойчивой проповеди они склонны оценивать как апокалиптическую закрытость мира от Христовой проповеди.
Странно, православие создало поистине виртуозную традицию усмотрения собственной виновности, традицию покаянного самопознания, но при этом церковные люди очень редко в своих неудачах винят самих себя. Если я не вижу Бога — виноват не Бог, а я («Бог невидим» — тезис скорее антропологический, нежели теологический). Если люди через меня не видят Бога — виноват опять же я, а не другие.
То, что люди не понимают меня, а я не понимаю людей — это проблема слишком глубокой воцерковленности православных. Зачем ты забыл свои собственные сомнения, когда сам стоял на пороге веры? Почему ты так унизил веру, так снизил ее цену, что стал считать ее положения чем-то очевидным? Вера стоит дорого потому, что она — это поступок, прыжок. После прыжка кажется, что иначе и быть не могло. Но до прыжка-то все смотрится иначе. В общем, у тех, кто отрицает миссионерскую заботливость о тех, кто за порогом, плохая память.