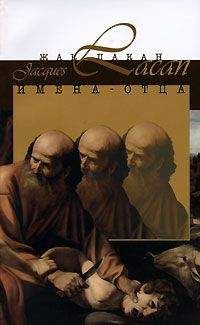Жак Лакан - Этика психоанализа(1959-60)
Поэтому, какое бы развитие метапсихологическая фантазия Фрейда, именуемая инстинктам смерти, в дальнейшем ни получила, имеет она под собой какие-то основания, или нет, вопрос, уже потому, что он фактически был поставлен, формулируется таким образом — как человек, то есть живое существо, может прийти к тому, чтобы об этом инстинкте смерти, то есть о своем подлинном отношении к смерти, узнать?
Ответ — в силу самого означающего, причем в его наиболее радикальной форме. Именно в означающем, именно артикулируя означающий ряд, субъект осязательно убеждается, что в ряду означающих того, что он есть, он может утратить себя самого.
На самом деле, это просто как дважды два. Не соглашаться с этим, не ставить эту формулировку не-знания как динамической ценности во главу угла, не признавать, что открытие бессознательного буквально здесь, в форме этого последнего слова, и фигурирует, — означает для аналитиков не понимать, что, собственно, они делают. Забвение этого фундаментального принципа и оборачивается как раз в аналитической теории настоящим потопом — льет словно кто поливает, как говорят в Шаранте — тропическим изобилием ссылок, невольно поражающих ощущением полной дезориентации, которым они пронизаны.
Разумеется, я прочитал, хотя и наскоро, вышедший недавно перевод последней работы Берглера. То, что он пишет, остроумно и не лишено интереса, но все в целом создает впечатление бредовой неразберихи понятий, над которыми полностью утрачен контроль.
Я хотел показать вам, что функция означающего в открытии для субъекта собственного отношения к смерти может быть продемонстрирована более осязательным образом, нежели в косвенной ссылке. Вот почему в ходе наших последних встреч я попытался преподнести ее вам в терминах эстетических, то есть в терминах чувственности, в форме прекрасного, поскольку роль прекрасного и состоит как раз в том, чтобы указывать нам то место, где открывается человеку его отношение к смерти — указывать, ослепляя.
В прошлый раз я попросил г-на Кауфмана напомнить те термины, в которых на заре нынешнего этапа в понимании человеком счастья Кант счел нужным определить отношения человека с прекрасным, после чего некоторые из вас жаловались, что выводы не были пояснены живыми примерами. Что ж, я попробую сейчас вам один такой пример привести.
Вспомните четыре аспекта красоты, о которых вам говорил докладчик. Я попытаюсь вам их постепенно проиллюстрировать. И первой ступенью послужит мне факт, заимствованный из собственного, самого что ни на есть повседневного опыта.
Опыт у меня невелик и я часто говорю себе, что у меня, пожалуй, нет к приобретению опыта подобающего для этого вкуса — вещи отнюдь не всегда действительно занимают меня. Но для того, чтобы образно представить то межеумное состояние, о котором я вам пытаюсь дать представление, кое-что у меня в запасе найдется.
Если глупость к числу моих достоинств не принадлежит, то кичиться этим я, в отличие от господина Теста, не собираюсь.
Итак, то, что я вам сейчас расскажу, это просто случай из повседневной жизни.
Мне случилось однажды быть в Лондоне, куда я был приглашен Институтом, занятым популяризацией за рубежом французской культуры. Поселили меня в своего рода, как они говорят, Ноте, расположенном в одном из очаровательных кварталов на окраине Лондона. Был конец октября, когда нередко еще стоит ясная погода. Маленькое, по-викториански комфортное здание дышало гостеприимством. Чудесный запах поджаренных тостов и крохотные порции несъедобных желе, которыми принято питаться на этом острове, придавали дому его особую атмосферу.
Я был там не один, со мной была спутница, пожелавшая меня в жизни сопровождать и отличавшаяся исключительным вниманием к неповторимому и уникальному. Утром спутница эта, моя супруга, неожиданно объявляет мне, что в гостинице остановился профессор Д", который когда-то был моим преподавателем в школе восточных языков. Час был очень ранний. Откуда вы знаете? — поинтересовался я, так как близким другом семьи профессор Д*, надо сказать, отнюдь не был. Я видела его обувь — ответила моя спутница.
Должен признаться что ответ этот вызвал у меня некоторый трепет, а также тень сомнения — индивидуальные черты оставленных у дверей башмаков не казались мне свидетельством достаточно убедительным, притом что никаких причин прибыть в Лондон у профессора Д*, насколько я знал, не было. Слова моей спутницы показались мне, скорее, забавными, и я не придал им никакого значения.
Я уже шел, забыв об этом разговоре, по коридору, когда увидел, в халате, из под которого виднелись при ходьбе длинные приличествующие преподавателю университета кальсоны — кого бы вы думали? Профессора Д* собственной персоной, выходящего, как ни в чем ни бывало, из своей комнаты.
Случай этот кажется мне весьма поучительным — именно с его помощью попытаюсь я пояснить вам, что представляет собой прекрасное.
Потребовалось ни больше, ни меньше, как событие, в котором оказались тесно сопряжены между собой универсальность свойственных профессорским башмакам черт с абсолютной уникальностью личности профессора Д*, чтобы перенестись мысленно к старым башмакам Ван-Гога — тем самым, что послужили для Хай-деггера замечательным образом того, что представляет собой произведение искусства.
Представьте себе вновь башмаки профессора Д", но уже ohne Begriff, не связывая их ни с вашим представлением об университетском преподавателе, ни с замечательным обликом самого профессора, и вы сразу увидите башмаки Ван-Гога в ином, несравненном качестве — в качестве прекрасного.
Вот они, здесь, эти башмаки, и они подают нам понимающий знак, знак, лежащий ровно на полпути между силой воображения, с одной стороны, и властью означающего, с другой. Означающее это не является уже здесь означающим долгой дороги, усталости, человеческой страсти и теплоты и чего бы то ни было еще в этом роде; оно остается означающим лишь того, что означает пара брошенных башмаков, то есть одновременно присутствия и отсутствия в чистом виде — перед нами вещь, так сказать, инертная, предназначенная для всех, но вещь, несмотря на всю свою немоту, говорящая, отпечаток чего-то органического, и в тоже время отброс, наводящий на мысль о новом, спонтанном зарождении жизни. То, что, словно по волшебству, превращает эти башмаки в своего рода аналог и оборотную сторону пары набухающих почек, показывает, что мы имеем здесь дело не с подражанием — что многих, писавших об этих башмаках авторов сбило с толку, — а с фиксированием на полотне чего-то такого, благодаря чему башмаки эти, будучи поставлены в определенные отношения со временем, стали зримым явлением прекрасного.
Если пример этот не кажется вам убедительным, поищите других. Дело в том, чтобы показать вам, что прекрасное не имеет ничего общего с тем, что называют идеалом прекрасного. И только разглядев красоту в моментальности перехода от жизни к смерти, можем мы попытаться восстановить красоту действительно идеальную, то есть ту функцию, которую может в определенных случаях взять на себя то, что предстает нам как идеал красоты, и в первую очередь, пресловутая форма человеческого тела.
Читая "Лаокоон" Лессинга — книгу поистине бесценную и богатую разного рода предчувствиями — вы увидите, что понятие о достоинстве изображаемого объекта он отвергает уже с порога. Впрочем, слава Богу, нельзя сказать, что от пресловутого представления о достоинстве объекта отказались в ходе исторического развития, так как, судя по всему, оно было отброшено с самого начала. Художественная деятельность греков не ограничивалась изображением божеств и, если верить Аристофану, они платили большие деньги за картины, на которых были написаны, скажем, луковицы. Так что вовсе не голландские художники первыми обратили внимание на то, что любой объект может стать означающим, способным породить тот дрожащий отблеск, тот мираж, то нестерпимое порою сияние, что мы именуем прекрасным.
Коль скоро я упомянул о голландцах, давайте вспомним о натюрморте. Вы обнаружите в них, но проделанный уже в обратном направлении, тот же переход, который совершили на наших глазах набухающие, как почки, старые башмаки. Как замечательно показал в своем очерке, посвященном голландской живописи, Клодель, натюрморт одновременно показывает и скрывает таящуюся в предметах угрозу распада, разложения, дезинтеграции, и именно поэтому прекрасное предстает в нем функцией временных отношений.
Далее нужно отметить, что вопрос о прекрасном, поскольку он касается понятия идеала, не может заявленному уровню соответствовать, не совершив своего рода перехода к пределу. Уже во времена Канта в качестве предела возможной красоты, в качестве ideale Erscheinung, преподносилась нам форма человеческого тела. Форма эта была — теперь это уже не так — формой божественной. Именно в нее облекаются всевозможные фантазии человеческого желания. Цветы желания находятся именно в этой вазе — вазе, очертания которой мы и пытаемся зафиксировать.