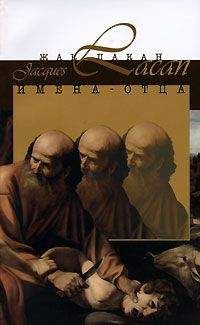Жак Лакан - Этика психоанализа(1959-60)
Теперь, сказав это, мы можем с чистой совестью вернуться к тому, о чем пойдет речь в нашем комментарии кАнтигоне — о сущности трагедии.
Трагедия, говорят нам — и нам трудно не принять во внимание определение, возникшее менее чем через столетие после того, как трагедия появилась на свет — имеет своей целью катарсис, очищение от παθήματα, страстей, а именно страстей страха и жалости.
Как понимать эту формулу? Мы подходим к этой проблеме под углом зрения того, что мы попытались уже сформулировать касательно места, принадлежащего желанию в икономии фрейдовской Вещи. Позволит ли нам это сделать следующий шаг — шаг, которого это историческое прозрение с необходимостью требует?
Если эта формулировка кажется на первый взгляд столь непрозрачной, то дело здесь в том, что часть этой работы Аристотеля была утрачена, а также в том, что мысль его была ограничена определенными условиями. Но сколь бы непрозрачной она ни была, теперь, когда два года работы в этом направлении позволили нам сделать в области этики новый шаг, дело начинает потихонечку проясняться. То, к чему мы пришли, в частности, говоря о желании, позволит нам привнести в понимание смысла трагедии новый элемент, причем отправной точкой для этого послужит нам — хотя есть, конечно, и более короткий путь — показательная в этом отношении функция катарсиса.
Антигона позволяет нам увидеть то средоточие цели, которое, собственно, и определяет собой желание.
В средоточии этом находится образ, окруженный некоей тайной, которая оставалась до сих пор неизреченной, ибо взглянуть на нее не зажмурив глаза человек был не в силах. Образ этот находится, однако, в центре трагедии, ибо это не что иное, как завораживающий образ самой героини ее, Антигоны. Ибо мы прекрасно знаем, что помимо диалогов драмы, помимо семьи, родины, помимо рассуждений на моральные темы, завораживает нас именно она — завораживает исходящим от нее нестерпимым блеском, чем-то таким, что сдерживает и в то же время озадачивает нас, внушая нам робость, что сбивает нас в этом страшном и добровольном жертвоприношении с толку.
Именно в этой притягательности и следует нам искать подлинный смысл, подлинную тайну, подлинное значение этой трагедии, в том волнении, которое она вызывает в нас, и в страстях, разумеется, в тех своеобразных страстях, имя которым жалость и страх, ибо как раз ими, страхом и жалостью, δι iXйov και φόβου, освобождаемся мы, очищаемся от всего, что к этому роду принадлежит. А что к этому роду относится, мы теперь с вами знаем — относится к нему, собственно говоря, регистр воображаемого. И очищаемся мы от него посредством того, что само является образом.
Вот здесь-то и возникает вопрос о том, что дает этому центральному образу такое могущество, что дает ему власть рассеять другие образы, которые в присутствии его умаляются, исчезают? То, как действие трагедии разворачивается, подсказывает ответ. Ответ этот лежит в красоте Антигоны, и это отнюдь не мой домысел — я покажу вам отрывок из песни хора, где о красоте этой говорится прямо, и докажу, что это поворотный пункт всей трагедии, пункт, занимающий место между двумя символически дифференцированными областями. Именно из этого места исходит окружающий ее блеск — тот блеск, который все, достойно говорившие о красоте, не могли не включить в само определение ее.
Его-то, место это, мы и пытаемся, как вы понимаете, очертить. Мы уже приблизились было к нему на прошлых занятиях и попытались впервые подойти к нему путем рисовавшейся воображению героев Сада второй смерти — смерти, к которой взывают они как к той точке, где сам цикл естественных преобразований аннигилируется, приходит к концу. Место ее, этой точки — той самой, где ложные метафоры сущего отслаиваются от позиции бытия как такового — находим мы в Антигоне, где она выступает в чистом виде, в качестве предела, буквально повсюду, в речах всех персонажей, и Тиресия в том числе. Но как не разглядеть ее и в самом действии? Недаром же центральным моментом пьесы является сцена, которая разворачивается вокруг Антигоны, которую ведут на казнь — сцена мольбы, споров, стенаний и комментариев. Но в чем, однако, состоит эта казнь? А состоит она в заключении в гробницу заживо.
Треть пьесы, причем центральная ее треть, состоит в детальном раскрытии того, что представляет собой жизнь, течение и исход которой совпадает с предвосхищением верной смерти, смерти, посягающей на область жизни, и жизни, вступающей во владения смерти.
Поразительно, что такие выдающиеся мастера диалектики и эстетики как Гегель и Гёте не сочли нужным учесть этот фактор в своей оценке воздействия, которое трагедия эта оказывает на зрителя.
Измерение это не является характерным лишь для Антигоны. Оглянитесь по сторонам, и вы увидите, что в поисках чего-то подобного не нужно ходить далеко. Определяемая таким образом зона играет в трагическом действии особую роль.
Пересекая эту зону, луч желания отражается и преломляется одновременно, оказывая тем самым то удивительное, совершенно особое действие, которое и есть воздействие прекрасного на желание.
В результате желание в дальнейшем как бы удваиваивается. Нельзя ведь сказать, что вследствие восприятия красоты желание гаснет — нет, оно продолжает следовать своей дорогой, но тут-то и рождается в нем как раз чувство, что оно попало в ловушку — ловушку, воплощенную той зоной сияния и блеска, в которую оно позволило себя увлечь. С другой стороны, ему прекрасно известно, что реальнее всего вызванное им возбуждение переживается там, где оно оказалось не преломлено, а отражено, отторгнуто. Но там-то как раз никакого объекта нет.
Откуда и берут начало два лика желания. С одной стороны, то угасание или усмирение желание под действием красоты, на котором так настаивал Св. Фома, цитированный мной здесь на прошлом занятии. С другой, тот разрыв с объектами, на котором настаивал в Критике способности суждения Кант.
Я только что говорил вам о возбуждении, и по этому поводу мне хочется обратить ваше внимание на то, как неуместно это французское слово, йmoi, обыкновенно используют, переводя фрейдовское Triebregung как возбуждение влечения, йmoi pulsionel. На самом деле слово это ни с эмоцией, ни с тем, что трогает, ничего общего не имеет. Французское слово йmoi происходит от старинного глагола йmoyer, или esmayer, означавшего, собственно говоря, кого-то чего-то лишить, я бы сказал — лишить его средств, ses moyens, но это, к сожалению, не более чем игра слов. Esmayer родственно готскому magnan и современному немецкому mцgen. Слово явно вписывается в отношения власти, имея в виду то, что способно ее вас лишить.
Теперь нам предстоит, наконец, приступить к тексту Антигоны в поисках чего-то такого, что к моральному уроку не сводится.
Один автор, к нашим вопросам подходящий совершенно безответственно, написал недавно, что перед соблазнами гегелевской диалектики я совершенно беззащитен. Упрек этот прозвучал как раз в тот момент, когда я начал на наших занятиях излагать диалектику желания в терминах, которых с тех пор придерживаюсь, и я не знаю, право, был ли он тогда заслуженным, но не могу сказать, что упомянутый автор отличался в этом отношении особым чутьем. Но как бы то ни было, не существует, по-моему, у Гегеля места слабее, чем его поэтика, в частности — рассуждения его по поводу Антигоны.
Согласно ему, мы имеем здесь дело с конфликтом дискурсов, в том смысле, что именно в них все главное заключается и что, более того, они движутся в направлении некоего примирения. Хотелось бы узнать, о каком примирении может идти речь в конце Антигоны. И не без удивления читаем мы далее, что примирение это, ко всему прочему, носит еще и субъективный характер.
В Эдипе в Колоне — последней, помните, пьесе Софокла — Эдип проклинает своих сыновей — оно-то, проклятие это, и порождает ту череду трагических катастроф, в которую вписывается Антигона. Пьеса завершается последним проклятием Эдипа — О, если бы не родиться..! О каком примирении может в таких обстоя — телььствах идти речь!
Я не склонен гордиться своим возмущением по этому поводу — на это до меня обращали внимание и другие. Подозревал что-то похожее уже Гёте, а также Эрвин Роде. Листая недавно его Психею, сослужившую мне службу в качестве собрания сведений о представлениях древних относительно бессмертия души, я имел удовольствие найти в этом в высшей степени достойном прочтения, замечательном тексте, признание автора в его удивлении общепринятому толкованию Эдипа в Колоне.
Попробуем, выбросив из головы ходячие истины по поводу Антигоны, присмотреться сами к тому, что в ней происходит.