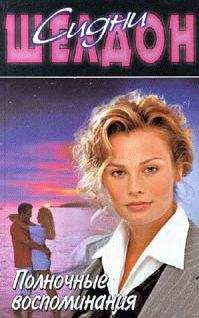Карл Витакер - Полночные размышления семейного терапевта
Мне приходилось работать также в госпитале ветеранов войны, с которым был связан медицинский институт. Тут я впервые понял, что пациент является биологически и психологически цельным, несмотря на свои многообразные мотивы и импульсы, а терапевт, какими бы ни были его интересы и призвание, величина переменная. Он является функцией: пытаясь быть, насколько возможно, самим собой, выполняет работу. Он не является цельным «Я», и чем больше самого себя ему удается вложить во взаимоотношения с пациентом, тем больше его сила и сила терапевтической команды. Биологическая цельность пациента стремится к единству, исцелению, росту. Функциональная попытка терапевта зависит от ситуации, обстоятельств, взаимоотношений с пациентом здесь и сейчас. Мне самому трудно в это поверить!
В госпитале ветеранов мы научились использовать суповую тарелку. Пациенты требовали все больше и больше снотворных таблеток, и в нашей родительской панике мы решили рискнуть и придумали ход, который сейчас называют «парадоксальной интенцией». Мы положили таблетки снотворного в суповую тарелку и поставили ее на стол в палате. Каждый мог брать их, сколько хочет. Сначала содержимое тарелки моментально исчезало, но через пять дней употребление снотворных снизилось в три раза по сравнению с прежним уровнем. Таблетки были символом любви, пациенты ощущали, что о них заботятся, когда получали лекарства от сестры. Передача ответственности за снотворное в руки пациентов заставила работать собственную систему контроля. Системы контроля крайне важны в больничной палате. Вот еще пример: один психотик мастурбировал почти двадцать четыре часа в сутки, и его невозможно было контролировать. Никто не знал, что с ним делать. Однажды старшая сестра подошла к нему во время дневного обхода и сказала: «Если вы это не прекратите, я больше никогда не буду вас навещать». И он сразу перестал. Ему как будто нужно было, чтобы за него приняла решение добрая мама.
Агония и восторг: лечение шизофреников
В течение десяти лет, проведенных в Эмори, мы с Мелоном вкладывали много сил в ко-терапию шизофреников. Иногда доктор Воркентин работал с матерью пациента, но, главным образом, мы пытались избавить самого пациента от ужаса психоза силою нашего с Мелоном вмешательства. Некоторое время у нас было что-то вроде приюта для выздоравливающих шизофреников. Наша забота о пациентах напоминала метод Джона Розена. Розен заинтриговал и потряс психиатрический мир своим проводимым в домашней обстановке «прямым анализом» — методом воздействия с помощью вербальной агрессивной атаки. (Предполагалось, что метод излечивает кого угодно. Исследования Американской психиатрической ассоциации показали, что это не так. У Розена были серьезные неприятности.) Наш подход походил на метод Розена тем, что пациент находился дома и получал индивидуальную терапию. Но мы не были столь агрессивными, используя скорее материнский подход.
Самым противным было, что при освобождении пациента от психоза семья находила способ забрать его от нас и возвращала его в психоз, даже если жила на расстоянии тысячи километров. Лечение впавшего в бред и отключившегося от внешнего мира хронического шизофреника требует полной отдачи, и когда пациента (ребенка) отдирали от нас, нам было очень тревожно. Лаймен Вайн говорит об агонии и восторге работы с шизофрениками. Я не знаю, как это можно выразить лучше.
Агония наблюдалась не только в процессе терапии, но и при ее окончании. Из этого вытекает мое решение прекратить всякую работу с психотиками вне их семьи. Постепенно мы пришли к убеждению, что невозможно понять психотика вне контекста его семейной динамики. Его отец и мать слабо связаны между собою; при беременности мать ослабляет связь с отцом и все больше и больше занимается значимым другим, растущим в ее утробе. А «непривязанный» отец находит себе иную привязанность — деньги, секретаршу, новую машину или собственную мать. Когда ребенок рождается, мать привязывается к нему еще сильнее. Отец в еще большей степени вынужден прилепиться к кому-то или чему-то на стороне, пока ребенку не исполнится года полтора. И тогда мать поворачивается к отцу, а его нет рядом. У нее развивается чувство одиночества. На соответствующей почве, связанной с опытом жизни в семье со своими родителями, мать начинает бояться сойти с ума, потерять контроль над своей внутренней жизнью. И возвращается к симбиозу, установившемуся в первые полтора года жизни ребенка, как бы заключая тайный договор. Ребенок будет сумасшедшей, связанной с первичным процессом половинкой их единой личности, состоящей из двоих людей, а мать станет другой, контролирующей половинкой — правильной, противостоящей шизофреническому распаду. Ребенок научится пребывать в симбиозе, продолжая оставаясь инфантильным, по крайней мере, во взаимоотношениях с матерью, даже если во внешнем мире он сможет симулировать социальную приспособленность. В подростковом возрасте эта симуляция кончается, и ребенок возвращается к примитивному психотическому поведению, продолжая защищать свою мать от ее страха сумасшествия в злокачественном одиночестве.
Вторжение терапевта и развитие взаимоотношений двойной связи (double bind) с пациентом замещают последнему отношения с матерью. Когда отношения установлены (а этого нельзя добиться симуляцией, терапевт должен действительно стать матерью, он не может просто вести себя, как она), терапевт получает возможность перевернуть вверх ногами эти две роли. Когда он становится психотическим «другим» для пациента, тому приходится сменить свою роль и оказаться здоровым, правильным, антишизофреничным. Такое изменение позволяет шизофренику стать обычным — частично сумасшедшим, частично здоровым, и постепенно все более и тем, и другим. Но это не решает, к сожалению, проблемы живой матери, которую на время заместил терапевт — просчет, в результате которого и пришлось заняться семьями.
Открытие мира семьи
Открытие мира семьи — самая живая ветвь на дереве моей профессиональной жизни. Как-то меня попросили помочь восьмидесятилетней матери одного из наших сотрудников. Ее состояние постепенно становилось все хуже, она превращалась в психологическое «растение», и мне было интересно проводить с ней время. Я радовался ее присутствию, открыл, что мне не нужны разумные разговоры для того, чтобы просто получать удовольствие. Глядя на меня, члены ее семьи тоже научились радоваться, не нуждаясь в том, чтобы женщина стала разумной и социальной. Она была просто их мамой. Два года спустя она все еще продолжала жить вместе с ними. Сумасшествие, вызванное атеросклерозом сосудов мозга, стерлось и стало незаметным. Она просто ела, спала, улыбалась и ходила в туалет. Но семья любила маму и продолжала наслаждаться ее присутствием. Их не пугало безумие, они не отвернулись от нее в болезни.
Я вспоминаю, как играл с ней в игру: мы были парнем и девушкой, которые вдвоем уезжали на неделю отдыхать на Бермуды. И однажды впавшая в детство бабушка спросила: «Молодой человек, вы играете или это правда?» Я рассмеялся и ответил, что играю. На следующий раз она принесла мне маленькую бутылочку с нюхательной солью, которую лет сорок хранила в своей сумочке, сказав, что, по ее мнению, мне эта соль нужнее, чем ей.
Частная практика: психиатрическая клиника Атланты
Переход от преподавания в университете Эмори к работе в психиатрической клинике Атланты, организованной по нашему общему решению, совершался постепенно. Университет все хуже переносил нашу боевую психотерапевтическую ориентацию, возникли неразрешимые административные разногласия. Тогда несколько человек — Том Мелон, Джон Воркентин, Эллен и Билл Кайзеры, Дик Филдер, Ривс Челмерс и я — одновременно уволились и перевели работу в отдельные офисы и в частную клинику. Организация клиники, покупка дома, положение бизнесменов в мире психотерапии были чем-то совершенно новым. Мы научились использовать процедуру второго интервью, прежде рутинную. Первоначально его функция была просто административной: нужно было представить консультанта, собрать добавочные данные, яснее оценить проблему, чтобы послать отчет направившему врачу и пациентам, будь то индивидуальный случай, пара или семья. Вскоре мы обнаружили, что его можно использовать и для других целей. Первый терапевт вынужден походить на мать: он всепрощающий, все принимающий, он почти ничего не требует. А консультант, приходящий на второе интервью с теми же людьми, выступает в роли отца: оценивает реальность, он требователен, разумен, гораздо меньше склонен принимать всерьез первые жалобы и проблемы пациентов, свободнее обдумывает происходящее и лучше видит целостную картину.
Это стало у нас до смешного обычным делом. Я, например, провожу первую встречу с семьей. Через неделю на вторую встречу с этой семьей я в качестве консультанта приглашаю любого сотрудника, у которого найдется время. Он выслушивает историю проблемы в присутствии пациентов и углубляется в нее. Затем в присутствии семьи — кроме случаев, когда ситуация оказывается крайне тяжелой — мы делимся мнениями. Консультант предлагает свою картину семейной динамики и необходимой терапии. А после этого мы отправляемся в его кабинет, где уже я становлюсь консультантом на его встрече с семьей. В обеих этих ситуациях первичный терапевт служит в основном секретарем. Мысли, инсайты, концептуальное понимание проблемы предлагает другой человек — консультант.