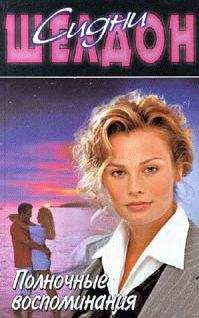Карл Витакер - Полночные размышления семейного терапевта
Потом я стал лучше понимать, как мои болезненные симптомы связаны с пациентами. Все это многообразие — кишечные спазмы, голод, чувство переполнения мочевого пузыря, насморк, «гусиная кожа», му-рашки и зуд, вдруг охватывающий полтела или одну руку или ногу, хождение взад-вперед по кабинету и, наконец, полностью обескураживающая меня самого особенность внезапно погружаться в сон в присутствии пациента. Раньше последнее казалось мне выражением скуки или желания уйти в себя, и я считал такое поведение неприличным. Но со временем, вдоволь настрадавшись от чувства вины и неуверенности, я стал относиться к моим внезапным приступам сна позитивно. Засыпая, я часто думал о том, что же происходило между мной и пациентом. Соответствие моих снов и терапевтической ситуации убедило меня в том, что это явление — просто способ уйти внутрь себя и найти там интроецированный образ пациента, чтобы потом рассказать ему об этом. И эти образы обычно бывали гораздо сильнее моих левополушарных умственных конструкций.
Приведу пример. У Билла и Мэри была дочь, недавно поступившая в медицинский. Они привели ее к психиатру и потому, что она настойчиво желала этим летом работать в клинике для черных. Дочь сказала, что с отцом она тесно связана, а мать у них в доме — что-то вроде прислуги. Тогда мать обратилась ко мне за психотерапевтической помощью, и я пытался заразить ее вирусом феминизма. Но вирус тогда, в 1953-м, был слабоват и не прививался. В тревоге, озабочен и подавлен, я однажды заснул и увидел во сне большой банкетный стол: двенадцать футов в длину и четыре в ширину, а посреди него стояла огромная серебряная супница. Мать девушки находилась с одной стороны стола и держала в руках большой половник, а ее дочь и муж сидели с другой стороны и ждали, когда им нальют суп в тарелки. Но рука матери была так замотана пластырем, что она никак не могла налить суп в свою тарелку. Я проснулся, рассказал сон, и тут-то мне впервые удалось действительно напасть на ее понимание жизни в стиле мужского шовинизма.
Меж тем у меня появлялись новые симптомы: головные боли, двоилось в глазах, напрягались мышцы шеи. В глазах двоилось, когда я был озабочен тревогами пациента и нашими отношениями. Мои симптомы помогали мне обрести новую свободу быть нежным и опекающим, а также злым и требовательным. Все больше я приходил к убеждению, что взаимоотношения есть причина изменения в психотерапии, а не инсайты или какое-то «безусловное принятие». Я научился не только принимать перенос, но и, по словам Р. Д. Лэйнга, «воплощать проекцию». Когда пациентка начинала видеть во мне материнские качества, я, пользуясь своей интуицией, играл эту роль и усиливал перенос; а затем нарушал правила игры, когда эта роль, в свою очередь, нарушала правила моего личного жизненного пространства. Я старался присоединиться к внутрипсихической семье пациента, а затем индивидуировать оттуда и быть тем, кто я есть на самом деле.
Я то входил в ко-терапию, то выходил из нее — один, потом с женой, с кем-то из детей, снова один — в серии попыток найти побольше самого себя. Я думаю, эта работа никогда не кончится.
Переключение на семейную систему
Параллельно с борьбой в поисках самого себя шла борьба за переход от индивидуальной терапии к большей системе. В Эмори мы все чаще работали командой из двух терапевтов (по аналогии воспитания детей двумя родителями). Этот метод убедил нас в том, что первый контакт между пациентом и терапевтом неизбежно происходит по образцу «мать-дитя», тогда как второй терапевт берет на себя роль отчима или отца. Таким образом, его больше интересует реальность, и он устанавливает отношения «Я-Ты» вместо первоначального материнского «Мы». Нас интересовало нечто большее, чем индивидуальные лабиринты души.
Один из моих коллег так объяснял мой уход из индивидуальной терапии. Он говорил, что мне просто наскучили отдельные люди, и он был прав! Индивидуальная терапия часто рутинна и неинтересна. Отношения одной пары с другой, напротив, дают простор взаимодействию и жизни и гораздо веселее. Мы пришли к мысли, что удовольствие, получаемое терапевтом, не менее важно для терапии, чем его техническое мастерство и способность понимать. Как будто веселье родителей становится питанием, необходимым для роста детей.
Неудачи интенсивной ко-терапии тяжелых шизофреников заставили нас переключиться с индивидуального контекста на большую систему. Мы начинали лечение с кормления из бутылочки, а затем переходили к наведению регрессии (к инфантилизации), для чего обнимали и гладили пациентов, давали им пережить приятные тактильные ощущения, а также по-детски разговаривали с ними. И получали великолепные результаты, но часто после того, как пациент выходил из состояния психоза и начинал двигаться в сторону нормального взросления, вмешивалась семья и сводила к нулю все наши успехи. Это все больше наводило на мысль начинать с семьи. Я считаю период безуспешной борьбы за излечение шизофрении основной вехой в истории развития собственной жесткости.
В 1950 году, в одно время, как я с Томом Мелоном работал над книгой, мы (я, Мелон, Воркентин и Филдер) провели серию конференций — их было около десяти — по психотерапии шизофрении. К нашей «группе из Атланты» присоединилась «Филадельфийская группа», куда входили психиатры Эд Тейлор, Джон Розен и Майк Хейворд. Каждые полгода мы собирались на четырехдневную встречу и всемером работали с одним пациентом шизофреником. Позже таким же образом мы начали работать и с семьями. Борьба за взаимопонимание и за новые идеи, большие радости и тяжкие муки при лечении шизофрении, вместе пережитые и разделенные нами, соединили нас — и группу в целом, и отдельных людей. Много времени мы потратили в поисках подхода к тому бессознательному восприятию, которое, как мы считали, есть у шизофреников, но недосягаемо для сознательных целенаправленных попыток достичь его.
Получив кое-какие терапевтические результаты, мы решили пригласить Грегори Бейтсона и Дона Джексона на нашу десятую конференцию, намереваясь облечь в концепции наши результаты — чтобы написать о них статью. Дон был нашим «мозгом», он заражал новыми мыслями, а Бейтсон — опытнейший антрополог — мудрецом, который глубоко знал все про человека. Во время нашей интенсивной встречи мы старались найти определение шизофрении и в конце концов решили, что не можем его дать. Мы также решили не включать в публикацию описание техник, понимая, что люди работают с шизофрениками из-за того, что хотят обрести свою внутреннюю психотическую личность, правополушарную часть своего мозга, не занимающуюся анализом, создающую цельный образ часть нашей коры. Мы выясняли роль шизофреногенной матери и задавали себе вопрос: может ли отец быть причиной шизофрении у ребенка? Наши споры происходили в то время, когда еще не получила распространения теория систем, объясняющая, что семейный организм и даже большая система необходимы для возникновения кровавого жертвоприношения шизофрении.
Между клинической и административной карьерами
Преподавать медикам и заниматься психотерапией с группами студентов, каждый из которых выглядел моим дешевым изданием, было мучительно. В то же время на все это накладывалась работа с бесконечными пациентами в большом госпитале Атланты (Греди). В Окридже, принимая пациентов одного за другим, я оставался самим собой, любящим или ненавидящим родителем, и мне посчастливилось напасть на бутылочное кормление, научившее меня роли кормящей матери. Но для госпиталя Греди было нужно что-то иное, чем просто сумасшедшая мать. Мне пришлось исполнять роль отца, организующего и принимающего решения, отца, ориентированного на реальность.
Вот пример сумасшедшей атмосферы тех лет: в приемной, где сидят пятьдесят пациентов, ко мне обращается женщина лет сорока. Минут пять она несет что-то невразумительное, а затем спрашивает: «Что со мной, доктор?»
Некогда было сесть и побеседовать с нею обстоятельно и разумно, поэтому я просто ответил: «Вы сумасшедшая».
Она обрадовалась: «Слава Тебе, Господи! Я так и думала, была у пяти врачей, но никто мне не сказал об этом. Большое спасибо. Что же мне теперь делать?»
«Почему бы вам не найти работу, и тогда у вас будут деньги на частного психиатра, с которым вы можете пару лет позаниматься вопросом о том, как вам жить в этом мире». Через несколько лет я узнал, что она так и сделала.
Задним числом оценивая 1947 год, я восторгаюсь своими психотерапевтическими открытиями и впадаю в депрессию, вспоминая кастрирующий административный опыт. Каждые четыре-пять месяцев мы прорабатывали новый проект психиатрической палаты, а затем все кончалось ничем. Так во мне росло не только чувство бессилия, но и моя жесткость. Это привело меня к выводу, что работа администратора — совсем особое искусство, для которого я не предназначен.