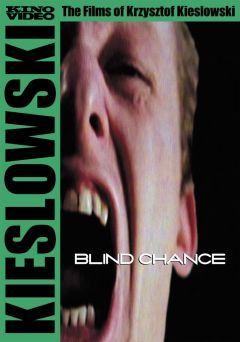Люк Райнхарт - ДайсМен или человек жребия
Не возникло бы у вас подозрений, если бы кто-то позвонил вам и приглушенным голосом с легким негритянским акцентом заказал сорокапятиместный автобус, чтобы отвезти тридцать восемь душевнобольных на бродвейский мюзикл через шесть часов тем же вечером? Пытались ли вы когда-нибудь вывести тридцать восемь душевнобольных из отделения, когда половина из них не знают, куда они идут, или не хотят идти, или не так одеты, или хотят смотреть вечернюю игру Метсов[127] по телевизору? Поскольку я не знал, каких именно тридцать восемь из сорока трех пациентов отделения мой инициатор хотел вывести на свободу, мне пришлось случайным образом выбрать тридцать восемь имен — и они, естественно, не совпадали с теми, которые имел в виду мистер Кеннон. Думаете, старший санитар или доктор Люциус М. Райнхарт допустили бы замену имен в списке?
— Слушай, Райнхарт, в списке нет двух моих лучших людей, — в отчаянии шептал Артуро мне на ухо в семь пятьдесят три того вечера.
— Им придется посмотреть «Волосы» в другой раз, — сказал я.
— Но я хочу, чтобы были именно эти люди, — продолжал он яростно.
— Вот тридцать восемь имен в списке. Вот тридцать восемь пациентов, которых я буду сопровождать на мюзикл «Волосы».
Он затащил меня подальше в угол.
— Но ведь Кеннон сказал, что Жребий сказал…
— Жребий сказал только, чтобы я попытался помочь сбежать мистеру Кеннону и тридцати семи другим душевнобольным. Имена не назывались. Если вы хотите проявить инициативу, заверяю вас, что я не отличу Смита от Петерсона или Клага, но я возьму только людей, которые называют себя Смитом, Петерсоном и Клагом.
Он умчался.
Через пять минут вразвалочку подошел Старший Санитар Херби Фламм:
— Послушайте, доктор Райнхарт, я не вижу Хекель-бурга в этом списке, но я только что видел, как он шел в последней группе с вашими санитарами.
— Хекельбург? — сказал я. — Вы что-то путаете. Я проверю. — И ушел.
Фламм снова поймал меня, как раз когда я уходил.
— Простите, что беспокою вас, док, но четыре парня из вашего списка всё еще здесь, а четыре парня, которых в списке нет, только что ушли.
— Мистер Фламм, вы уверены, что у вас в отделении сейчас осталось пять пациентов?
— Да, сэр.
— И что ушли только тридцать восемь?
— Да, сэр.
— Вы уверены, что меня зовут Райнхарт?
Он уставился на меня и начал нервно гладить свой большой живот.
— Да, сэр. Думаю, да, сэр.
— Вы думаете, что меня зовут Райнхарт?
— Да, сэр.
— Кто этот пациент — вон там? — спросил я, показывая на пациента, которого никогда раньше не видел, надеясь, что он только что поступил.
— Э-э-э… а… этот?
— Да, этот, — холодно сказал я, возвышаясь над Фламмом.
— Я должен проверить у санитара, у Хиггенса. Он…
— Мы опаздываем к началу мистер Фламм. Боюсь, я не могу позволить вашей смутной памяти на имена еще больше нас задерживать. До свидания.
— До… до свиданья, док…
— Райнхарт. Запомните это.
Случалось ли вам идти по Бродвею в середине строя из тридцати восьми мужчин, вразнобой одетых в военную и больничную одежду, кеды, сандалии, бермуды, рваные футболки, африканские накидки, купальные халаты, ночные тапочки, пижамные куртки и спортивные костюмы и ведомых совершенно безмятежным восемнадцатилетним парнем в белом больничном халате, насвистывающим «Боевой гимн Республики»? Приходилось ли вам затем вместе с блаженным мальчиком вести такой строй в бродвейский театр? И выглядеть естественно? И расслабленно? Когда половина мест была в первом ряду? (Летний штиль дал мне возможность купить билеты в последнюю минуту — в 4:30 того дня, — но двадцать из них обошлись по 8 долларов 50 центов.)
А пытались ли вы затем усадить тридцать восемь странных людей, когда половина мест картечью разбросана по театру на пятьсот мест? Когда трое ваших пациентов — ходячие зомби, еще четверо — маниакально-депрессивные плюс шесть озабоченных гомосексуалистов? Пытались ли вы сохранять чувство достоинства, непоколебимость и авторитет, когда один из этих несчастных всё время подходит к вам и истерическим шепотом спрашивает, когда же все они должны сбежать?
— Райнхарт! — зло зашипел на меня Артуро Икс. — Какого черта мы тут делаем на «Волосах»?
— Мне было приказано привести вас на «Волосы». Я это сделал. Отдельным приказом Жребий запретил выпускать вас на Лексингтон-авеню. Надеюсь, вам понравится представление.
— Там сзади четыре мусора стоят. Я их видел, когда мы заходили. Это что, какая-то ловушка?
— О полиции мне ничего не известно. Из театра есть другие выходы. Я надеюсь, вам понравится. Получайте удовольствие.
— Чертов свет гаснет. Какого хрена мы должны здесь делать?
— Слушайте музыку. Я привел вас на «Волосы». Наслаждайтесь. Танцуйте. Получайте удовольствие.
Всё это время Эрик Кеннон сохранял безмятежность игрока в гольф при двухдюймовом ударе и ни разу ко мне не подошел — разве что на две секунды сразу после окончания первого действия («Клевое шоу, доктор Райнхарт, я рад, что мы сюда пришли»). Но Артуро Икс переставал ерзать на своем кресле, только когда бросался к проходу, чтобы переговорить с кем-то из своих последователей или со мной.
— Слушай, Райнхарт, — прошипел он мне ближе к концу антракта. — Что ты станешь делать, если мы все встанем и начнем танцевать или пойдем на сцену?
— Я привел вас на «Волосы» и хочу, чтобы вам понравилось. Получайте удовольствие. Танцуйте. Пойте.
Он посмотрел мне в глаза, как окулист, ищущий признаки разложения сетчатки, а потом разразился коротким смешком.
— Господи… — сказал он.
— Приятного вечера, сынок, — сказал я, когда он уходил.
— Доктор Райнхарт, кажется, пациенты между собой перешептываются, — сказал один из моих санитаров-гигантов приблизительно три минуты спустя.
— Без сомнения, грязные шуточки, — сказал я.
— Этот Артуро Джонс подходит к каждому и что-то шепчет.
— Я велел ему напомнить всем, чтобы они не опаздывали на автобус, который должен отвезти их обратно на остров.
— Что, если кто-нибудь попробует сбежать?
— Задержите его, мягко, но решительно.
— Что, если они все сбегут?
— Задержите тех, у кого самые социопатически острые заболевания, — зомби и убийц, короче, — а остальных оставьте полиции. — Я безмятежно улыбнулся ему. — Но никакого насилия. Мы не должны портить репутацию наших санитаров. Мы не должны расстраивать публику.
— Ладно, доктор.
Я уселся между пациентами, наиболее явно одержимыми мыслью об убийстве, и когда люди в нашем ряду начали подниматься, чтобы присоединиться к танцующим на сцене, я обвил своими громадными ручищами их шеи и сжимал, пока они не стали какими-то странно сонными. Затем я с интересом посмотрел начало второго действия, где тридцать или около того странно одетых членов труппы, которые, очевидно, выдавали себя за сидевших вокруг меня зрителей, направились, весело дурачась и танцуя, по проходам к сцене. Находившаяся на сцене часть труппы изобразила легкое замешательство, но продолжала петь, а новые чудики смешивались с чудиками из первого действия и пели, танцевали и резвились, и все пели начальный номер «Куда я иду?», пока большинство новеньких не исчезло.
Полиция допрашивала меня в театре около получаса, и я позвонил в больницу и сообщил соответствующим сотрудникам о небольших затруднениях, с которыми мы столкнулись, а еще я позвонил доктору Манну домой и проинформировал его, что тридцать три пациента сбежали с мюзикла «Волосы». Мой телефонный звонок оторвал его от партии, в которой у него был фулл-хауз, от тузов до валетов, и его голос стал таким расстроенным, каким я его никогда не слышал.
— Боже мой, боже мой, Люк, тридцать три пациента. Что ты наделал? Что ты наделал?
— Но в твоем письме говорилось…
— В каком письме? НЕТ, нет, нет, Люк, ты знаешь, я никогда не стану писать никаких писем о тридцати трех — ох! — ты же знаешь! Как ты мог это сделать?
— Я пытался с тобой связаться, звонил тебе.
— Но ты не казался встревоженным. У меня и мысли не было. Тридцать три пациента!
— Мы удержали пятерых.
— Ох, Люк, боже мой, газеты, доктор Эстербрук, комитет Сената по психогигиене, боже мой, боже мой.
— Они просто люди, — сказал я.
— Почему мне за целый день никто не позвонил, не сообщил запиской, курьером или еще как-нибудь? Почему все сваляли дурака? Повести тридцать три пациента из отделения…
— Тридцать восемь.
— На бродвейский мюзикл…
— А куда нам нужно было их вести? В твоем письме говорилось…
— Не говори так! Не упоминай при мне никакого письма!
— Но я был просто…
— На «Волосы»! — у него перехватило дыхание. — Газеты, Эстербрук, Люк, Люк, что ты наделал?