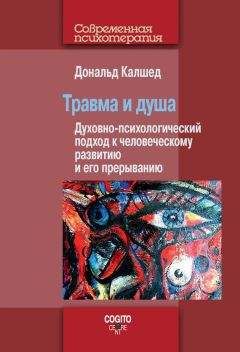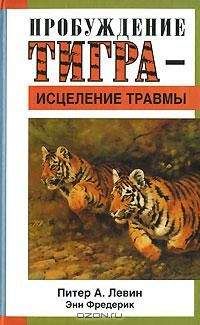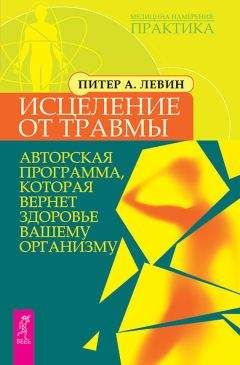Дональд Калшед - Внутренний мир травмы. Архетипические защиты личностного духа
Даймон-любовник и фантазия
Д. В. Винникотт назвал этап «хрустального дворца» в нашем двухстадийном процессе «фантазией» (одномерной), в отличие от истинного «воображения», которое является фантазированием о чем-то реальном (двумерным). Он рассматривал фантазию как защиту и от жизни, и от мечты (см.: Winnicott, 1971a: 26ff.). В качестве примера он приводил случай женщины средних лет, всю свою жизнь проведшей в фантазии. Эта пациентка очень рано отказалась от всяких надежд, связанных с объектными отношениями, из-за слишком раннего разочарования в отношениях со своей матерью. Она была самой младшей среди своих братьев и сестер, которые были предоставлены самим себе. В детской она пыталась отстаивать свои права и наравне со всеми участвовать в общей игре, однако помогали только уступчивость и покорность. Итак,
…играя в игры других людей, она все время была погружена в фантазии. Она действительно жила в своем фантастическом мире, и это было возможно благодаря тому, что какой-то сегмент ее дисоциированной психической активности был диссоциирован… она стала виртуозом в том, что она обладала способностью проживать диссоциированную жизнь, при этом, как казалось со стороны, принимая участие в играх вместе с другими детьми в детской комнате… постепенно она стала одной из тех многих, у кого отсутствует чувство, что они заслужили право на то, чтобы быть самостоятельными человеческими существами.
(Там же: 29)Винникотт говорит, что в фантазиях она «сохранила свое всемогущество» и могла совершать удивительные вещи. Однако, пытаясь что-то делать, например, рисовать или читать, оставаясь при этом в диссоциативном состоянии, она наталкивалась на границы своих возможностей, что ставило под вопрос ее всемогущество, за которое она цеплялась в своих фантазиях, заставляя ее страдать от разочарования. Таким образом, фантазии «овладели ею, подобно злому духу» (там же: 33) – в точности, как наш даймон.
В фантазии: «Собака – это собака – это собака»[82]. Фантазия не обладает «поэтическими достоинствами», тогда как настоящая мечта содержит в себе поэтическое, то есть в ней присутствуют разные уровни смысла, относящиеся к прошлому, настоящему и будущему, а также внутренней и внешней реальности. Таким образом, в фантазии отсутствует смысл. Ее нельзя интерпретировать (там же: 35).
Бывало так, что пациентка просто сидела в своей комнате и ничего при этом не делала, только дыхание нарушало ее покой, однако (в своей фантазии) она создавала живописные полотна или выполняла интересную для нее работу, или совершала загородную прогулку, между тем для внешнего наблюдателя с ней ровным счетом ничего не происходило. Ее жизнь в диссоциативном состоянии была слишком насыщенной, так что вероятность того, что в ее реальной жизни могли происходить еще какие-то события, была мала. Впрочем, бывало и так, что, сидя в своей комнате, она размышляла о предстоящей ей завтра работе, строила планы или думала о будущих выходных – в этом случае она использовала свое воображение для исследования реальности, мечта моделировала жизнь.
Так происходило скольжение от здоровья к болезни и обратно к здоровью.
(Там же: 27)Фантазия как защита от символического
Томас Огден характеризует сферу фантазии сходным образом, утверждая, что в этой области отсутствуют символы, так как символы всегда требуют то, что он назвал «способностью поддержания психологической диалектики» (Ogden, 1986), а для этого, в свою очередь, необходимо то, что Винникотт обозначил как пространство возможного. Под пространством возможного Огден подразумевает переходную область переживания, которая располагается между внутренней и внешней реальностью – лежит «между субъективным объектом и объектом, воспринимаемым объективно» (там же: 205). В терминологии Винникотта, оно представляет собой «гипотетическую область, которая существует (но может не существовать) между ребенком и объектом (матерью или частью матери) в течение фазы отвержения объекта как «не-Я» (Winnicott, 1971a: 107), то есть при выходе из фазы слияния с объектом. Другими словами, в этом «пространстве» происходит взаимопроникновение и смешение субъекта и объекта, формируется «единение в двоичности», что всегда предшествует троичности. Главная отличительная черта пространства возможного представлена парадоксальностью отношений между ребенком и матерью, которые на этой стадии одновременно и сепарированы и соединены. Ребенок достигает сепарации от объекта только при помощи этой переходной области, опираясь на ее способность к формированию символов.
Исцеление психической травмы требует присутствия этой переходной области «единения в двоичности» в переносе или в иных отношениях. Огден приводит прекрасный пример способности к символообразованию, сформированной после травмы внутри «пространства возможного» – способности, которая оставалась недоступной для Эрота и Психеи в их хрустальном дворце, пока не родился ребенок, то есть в их единении в «двоичности» не стал действовать «третий» фактор.
Ребенок двух с половиной лет стал оказывать упорное сопротивление попыткам искупать его после того, как однажды во время купания в ванной он сильно испугался из-за того, что его голова неожиданно оказалась под водой. Несколько месяцев спустя после мягких, но настойчивых уговоров своей матери он весьма неохотно позволил поместить себя в ванну, в которую было налито воды на четыре дюйма. Все тело ребенка было напряжено, он крепко вцепился руками в мать. Он не плакал, но не отводил умоляющего, словно приклеенного, взгляда от глаз своей матери. Одна нога была судорожно вытянута вперед, в то время как при помощи другой он выталкивал свое тело из воды настолько, насколько это было возможно. Почти сразу же мать стала привлекать его внимание к игрушкам, плававшим в ванне. Он не проявлял к ним ни малейшего интереса до тех пор, пока мать не сказала ему, что не отказалась бы, пожалуй, сейчас от чашечки чая.
В этот момент напряжение в его руках, ногах, животе и особенно в выражении лица, до сих пор такое заметное, внезапно сменилось признаками другого физического и психологического состояния. Его коленки обрели некоторую подвижность, а глаза стали искать игрушечные чашки и блюдца, а также пятнистую пустую бутылку из-под шампуня, которая была призвана изображать бутылку с молоком для чая; настойчивая мольба, в которой звучало напряжение: «Не хочу в ванну, не хочу в ванну!» – сменилась рассказом об игре: «Чай не очень горячий, теперь нормально. Я подул на него для тебя, ням-ням». Мама выпила немного «чая» и попросила еще. Через несколько минут мать протянула руку к мочалке. Это привело к тому, что игра ребенка прекратилась так же резко, как и началась, все признаки его прежней тревоги, предшествовавшей игре, вернулись. Заверив ребенка в том, что она будет поддерживать его, так что он не поскользнется, мать спросила его, нет ли у него еще чая. Ребенок стал готовить чай, и игра возобновилась.
(Ogden, 1986: 206–207)В своем комментарии Огден отмечает:
[Здесь мы можем наблюдать] то, как мать и ребенок создают некое ментальное состояние, в котором происходит преобразование воды как угрозы в пластичную переходную субстанцию (открытую творческим воображением ребенка), которой может быть придано то или иное символическое значение, пригодное для выражения через коммуникацию. В этом процессе трансформации реальность не отрицается; опасная вода представлена в игре. В то же время и фантазия не лишена своей жизненности – дыхание ребенка магическим образом превращает опасную воду в милый подарок. Здесь также присутствует «Я» ребенка, которое раскрывается в игре и так отличается от состояния скованности и отчаянного цепляния, которым были спаяны мать и ребенок до того, как началась игра.
(Там же: 208)Психическая травма приводит к коллапсу, в терминах Огдена, диалектического напряжения, необходимого для рождения осмысленного переживания, так что одной из основных задач психотерапии пациентов, страдающих от последствий психической травмы, является создание пространства, в котором «реальность не отвергается» и «фантазия сохраняет свою жизненность». В сюжете нашей истории передана динамика этого коллапса: уход в сферу фантазии и уничтожение любой возможности проникновения реальности в герметичный нуминозный мир архетипической системой самосохранения, которая таким образом борется за контроль над внутренними чувственными состояниями. Эта борьба порождает деструктивное сопротивление, которое исходит от демонической стороны нашей фигуры Защитника/Преследователя, а в мифе этому сопротивлению соответствует навязчивая забота Эрота о сохранении своего инкогнито, его настойчивое желание, чтобы Психея оставалась в неведении относительно истинной природы своего любовника.