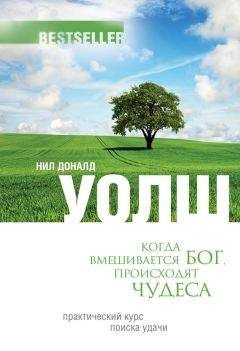Борис Парамонов - МЖ. Мужчины и женщины
Пора, однако, от темы, от тем Павловой перейти к ее приемам – и здесь попытаться увидеть ее своеобразие и неповторимость: неповторяемость ею – других, обретаемую – обретенную – самостоятельность.
У Павловой можно найти не только Цветаеву в учителях и в образцах, но и, скажем, Бродского. От Бродского – частый, чуть ли не постоянный отказ от силлабо-тоники. И еще одно: пристрастие к формулам. Бродский поэт очень «математический». Но он выводит свои формулы многословно, они у него даются как вывод долгих рассуждений, и живой тканью стиха делаются самые эти рассуждения: процесс важнее результата. Павлова делает стихом – формулу. Рукопись тогда приобретает действительно математический вид: значков много, а слов почти нет, кроме самых второстепенных, служебных, вроде «следовательно», «отсюда», «получаем». В школьной математике была такая процедура – приведение подобных: цифр становилось все меньше и меньше, шло бойкое сокращение. Павлова и эту арифметику вспоминает, и школу:
Смерть – знак равенства – я минус любовь.
Я – знак равенства – смерть плюс любовь.
Любовь – знак равенства – я минус смерть.
Марья Петровна, правильно?
Можно стереть?
Дело, конечно, не в формулах, не в математике – а в установке Веры Павловой на краткость, почти на немоту. (Вот тут слышится и Ахматова.) В «Четвертом сне» нет длинных текстов. Понятно, что и в текстах нет лишних слов. Более того, подчас сокращаются даже слова – просто недописываются. И вот как это реализуется на теме, нам уже известной:
В дневнике литературу мы сокращали лит-ра,
и нам не приходила в голову рифма пол-литра.
А математику мы сокращали мат-ка:
матка и матка, не сладко, не гадко – гладко.
И не знали мальчики, выводившие лит-ра,
который из них загнется от лишнего литра.
И не знали девочки, выводившие мат-ка,
которой из них будет пропорота матка.
Тот же прием в стихах о смерти – еще одной привлекающей ее теме:
...с омонимом косы
на худеньком плече...
Посмотрит на часы,
заговорит по че —
ловечески, но с
акцентом прибалти...
Посмотрит на часы
и скажет: Без пяти.
Это именно установка, осознанный прием: «Прижмись плотнее, горячей дыши в затылок безучастный зде лежащей». Невозможно объяснить, но нельзя не слышать, что здесь «зде» лучше, чем «здесь».
Молодому Бродскому объяснили, что из стихов нужно изгонять прилагательные. Павлова изгоняет из стихов – слова, оставляет только самые необходимые, делает из текста скелет. Вот экспериментальный образец:
Наш!
Твое, Твое, Твоя.
Наш нам.
Нам наши, мы нашим.
Нас, нас
от лукавого.
Трудно не узнать тут христианский Символ веры – но выросший в экспрессивности. Это уже не молитва, а какое-то ветхозаветное заклинание, заклятие Бога.
Соответственно, Павлова любит афоризмы и апофегмы размером в две, а то и в одну строку:
Любовь – это тенор альтино.
Ты понял, скотина?
Смотрел на меня взасос
и поцеловал – в нос.
Только у Венер палеолита
ничего не может быть отбито.
Вот одностроки с внутренней рифмой:
Одноголосая фуга – разлука.
Фермата заката.
Она умеет писать не словами, а частями слов – как в цитированном о смерти с прибалтийским – прибалти – акцентом. А как там работала буква «с»: консонанс, ставший рифмой. Заставляет играть не слова, а их фрагменты. Вот еще пример, где работает пол-слова, причем эти пол-слова – полу.
Все половые признаки вторичны,
все жгутики твои, мои реснички.
Пути окольны, речи околичны
тычинки-пестика, бочки-затычки.
Яйцо вторично, курица тем паче.
Хочешь кудахтай, хочешь – кукарекай.
Хочу. Кудахчу. Не хочу, но плачу,
придаток, полуфабрикат, калека.
Я не говорю сейчас о великом платоническом смысле этого стихотворения: тоска по целостному человеку у этой хранительницы оргазмов. Меня сейчас интересует мастерство: гениально организованная цезура, выделяющая это полу. И как найдено сногсшибательное слово «придаток».
Мемуаристка вспоминает, как Мандельштам восхищался буквой «д» в романе «Двенадцать стульев»: Малкин, Галкин, Чалкин, Палкин и Залкинд. Можно представить, в какой восторг привела бы его Вера Павлова, играющая буквами. Пишущая уже не словами, а буквами. И буква у нее делается духом.
Ее декларация:
ПЕСНЯ БЕЗ СЛОВ
Слово. Слово. Слово. Слово.
Слово в слово. Словом. К слову.
Слово за слово. За словом
слово. На слово. Ни слова.
А вот реализация этого протокола о намерениях:
Буду писать тебе письма,
в которых не будет ни слова
кокетства, игры, бравады,
лести, неправды, фальши,
жалости, наглости, злобы,
умствованья, юродства...
Буду писать тебе письма,
в которых не будет ни слова.
Или:
Песня без слов – рыба.
Рыбью песню без слов
подтекстовать могли бы
трое: а) рыболов,
б) ловец человеков,
в) червяк на крючке...
Эпитафия веку —
песня рыбы в садке.
Вот еще одна декларация:
Песня летучей рыбы на суше —
мелкой плотвички, которую сушим
на веревке, рядом с плавками, чтобы
получилось что-то наподобие воблы,
но она ссыхается до полуисчезновения...
кто не понял: это – определение
Поэзии.
Второе определение поэзии, «цветаевское»; павловское здесь – игра на сломанном, искаженном слове:
Поэзия – музей
закопанных богов,
слоновых их костей,
бараньих их рогов,
в которые дудю,
дудею и дужу,
когда молюсь дождю,
когда огню служу.
Павлова – пианистка (еще одно цветаевское у нее), и, видимо, отсюда это понимание паузы, замирания, исчезновения звука. Но она научилась делать это в стихах, в словах. Делать так, что сами слова исчезают, сводятся к буквам. Павлова пишет не поговорки, не частушки, даже не словарь, – она пишет алфавит, абевегу.
О паюсная абевега
столетий, плавником блеснувших!
Слово, часть слова, полу-слово, буква... но она умеет писать – пробелами, многоточиями, пустотами:
Стихосложенье невозможно.
Займемся стиховычитаньем
и вычтем первую строку:
.......................................
И птицей жареной восстанем
из пепла. И кукареку.
Азбука Морзе. У Павловой и о ней есть – не только об абевеге.
К книге «Четвертый сон» приложен словарь имен, понятий и сокращений (важно, что словарь и что сокращений). Одна из позиций этого словаря звучит так:
Десятова – девичья фамилия Павловой В.А. Ба! Да ведь Десятова – анаграмма слова ДЕТСТВО! Правда, с двумя лишними буквами – А и Я.
От А до Я – это и есть алфавит. По-другому: это и есть Павлова.
Если же держаться первоначальной музыки, то Павлова переходит от мелодии и гармонии к гамме, возвращается как бы к ученичеству. И тогда приобретает особый – тонко иронический – смысл выделенный особым разделом образ школьницы: «интимный дневник отличницы». Этот образ становится скрытой тематической мотивировкой поэтического приема: ученичество как новый облик мастерства. Образ-оксюморон: ученик как мастер.
Поэтому читатель как бы в недоумении: то ли это уже гениально, то ли от Павловой следует ждать чего-то еще. И если она – Пушкин, то не ясно какой: лицеист или камер-юнкер. Это недоумение специально вызванное, организованное и спровоцированное Павловой – это ее, как теперь говорят, стратегия.
На то, как она сама себя видит, намекает как бы название книги – «Четвертый сон» В сочетании с именем – Вера Павлова – это должно напоминать вроде бы о Чернышевском. Но это еще одна уловка, ловушка для простаков. Настоящая, правильная здесь ассоциация – поговорка: «седьмой сон видит».
Вера Павлова тем самым говорит, что у нее еще многое впереди. Будут еще так называемые творческие сны; будет и новое мастерство. Хотя и уже сделанного достаточно, чтобы видеть: она начинает – являет собой – новый, платиновый век русской поэзии.