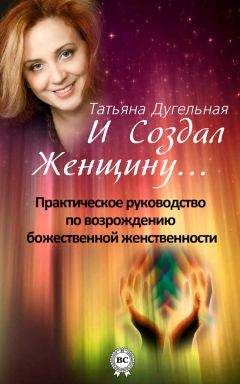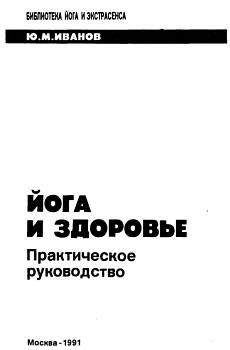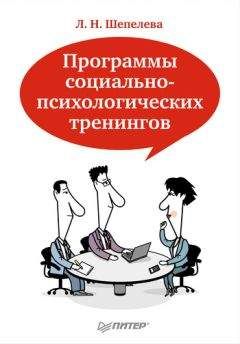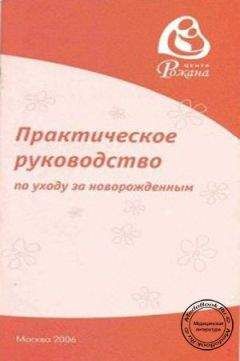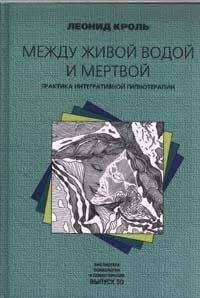Гельмут Карл - Гипнотерапия. Практическое руководство
С неохотой она согласилась на применение гипноза. Когда была достигнута удовлетворительная степень транса, терапевт задал вопрос о том, были ли в ее жизни моменты, проливающие свет на те необъяснимые события, которые они только что обсуждали и которые она не осознавала. Оставаясь в трансе, пациентка начала говорить совершенно иначе: ее голос вместо тихого и спокойного стал каким-то хриплым и грубым. В равной степени изменился и ее лексикон, и у терапевта сложилось впечатление, что эту как будто умирающую и нереальную девушку, с которой он только что разговаривал, заменили ярким и энергичным человеком с совершенно другим складом характера. Между прочим, что любопытно, эта “особа” не нуждалась в помощи слухового аппарата, чтобы слышать голос терапевта.
Можно рассматривать подобный случай как яркий пример раздвоения личности, хотя применение понятий диссоциации и подавления сексуальных и агрессивных импульсов могло бы столь же успешно объяснить состояние пациентки. Переживания, которые она испытывала во время сеанса, были переживаниями другой, ранее незнакомой личности, существующей, по видимости, внутри нее, но без каких-либо контактов с ней “настоящей”.
Что касается ее собственного восприятия, то она была испугана ощущением того, как ее тело словно отнимается у нее другим человеком, и шокирована мыслями, чувствами и импульсами, которые звучали из ее уст.
Альтернативная личность явно олицетворяла и воплощала недоступные аспекты ее “Я”. Можно спорить, отличается ли существенно такая персонификация скрытых когнитивных, аффективных и волевых характеристик от “простого” подавления, или же в качестве реальности, служащей тем же функциям эго-защиты, следует рассматривать предполагаемое независимое сосуществование личности. Этот вопрос хотя и является сам по себе интересным и теоретически важным, все же менее уместен в данном контексте, чем вопрос о том, является ли применение понятия множественной личности более полезным для тактики лечения, чем другие понятия. На этот вопрос ответить проще, поскольку можно опереться на эмпирические свидетельства.
В случае с данной пациенткой проявление альтернативной личности открыто признавалось терапевтом: эта личность проходила интервью наравне с основной, но с поправкой на осведомленность терапевта, наблюдающего все-таки основную личность.
Важной особенностью альтернативной личности было сильное чувство презрения к основной, которую она считала немощным ничтожеством, “обывателем”, которого нужно “убрать с дороги”, — как предварительное условие для получения непрерывного и полного контроля над их общим телом. Около шести или семи интервью проводились со вторичной личностью, тогда как основная “слушала”, причем содержание этих сеансов затем обсуждалось с ней. Основная личность в каждом интервью сообщала, что между встречами с терапевтом ей становится все легче налаживать контакт с другой личностью. Основная личность смогла создать отношения сотрудничества с альтернативной, что дало возможность главной личности воспринимать позитивные качества альтернативной, особенно в свете интерпретаций терапевта и его полного принятия пациентки. Это, казалось, способствовало процессу, посредством которого основная личность постепенно стала относиться к альтернативной не как к чужеродной личности, а как к существенной части самой себя. Таким образом, проявления двух очень поляризованных крайностей постепенно интегрировались. Они начали общаться друг с другом, и в процессе этого каждая из них научилась умерять свою униполярность до тех пор, пока разница между ними не стала незначительной и “разделение” постепенно не исчезло.
Такая стратегия, рассматривается ли она как схема, метафора или же как реалистическое признание существующей действительности, может применяться, даже когда разделение происходит иначе, нежели у этой пациентки. Например, терапевты некоторых школ будут использовать формулу “внутренний ребенок” или “объединенные личности родителей”, тогда как специалисты, практикующие транзактный анализ, без колебания обратятся к реконструированным эго-состояниям в одной из трех категорий — Родителя, Взрослого и Ребенка. Гештальт-психология использует технику “пустого стула” и технику “знакомства с ребенком”. Первая из них построена на том, что различные части личности будто бы занимают другой стул и участвуют в диалоге с пациентом. Диссоциированные аспекты личности персонифицируются и затем используются пациентом, когда каждая из альтернативных личностей начинает “говорить” за себя. После этого пациент под руководством терапевта пытается разрешить диссоциацию и определяющий ее аффект.
Олицетворение диссоциированных частей личности в виде другого человека (или других людей) позволяет состояться разговору, благодаря которому человек может позволить себе сначала терпеть, затем принимать и, наконец, интегрировать ранее диссоциированные переживания, аффекты и потребности.
Диссоциация — ятрогенная, спонтанная или даже совмещенная с патогенными процессами, лежащими в основе существующих проблем, — таким образом может быть успешно устранена. Обращаясь к предполагаемым альтернативным личностям пациента как к отдельным людям, можно открыто вести с ними диалог и направлять пациента к разрешению диссоциации: сначала узнавая больше об альтернативной личности и начиная относиться к ней по-дружески, потом предоставляя когнитивную и аффективную информацию, которую она имеет, и, наконец, “встраивая” альтернативную личность (или личности) в основную. Поскольку с диссоциированными личностями, как известно, трудно иметь дело, эта техника предлагает полезный альтернативный подход в противовес более долгосрочным и зачастую менее эффективным средствам избавления от “разделения”.
Подробный пример применения этого подхода можно найти у одного из авторов (Karle, 1986; 1987): женщина 43 лет, всю свою жизнь страдавшая от депрессии вследствие жестокого сексуального насилия в детстве, проходила лечение, в частности и в рамках данного подхода.
Ее ранние переживания были связаны с первым эпизодом сексуального насилия со стороны собственного отца (см. другие аспекты лечения этой пациентки в главах 14 и 16). Она немедленно сообщила об этом матери, которая обругала ее за грязную ложь, сказав: “Папы не делают таких вещей!” — и в качестве наказания отправила свою дочь в комнату. Это предательство со стороны матери оказалось значительно более травмирующим событием для пациентки, чем сам факт сексуального насилия, которое хотя и было чрезвычайно болезненным переживанием, но не содержало в себе угрозы быть покинутой основным защитником (матерью), а также угрозы непризнания реальности своих переживаний и чувств.
В ходе работы над этим первым переживанием терапевт назвал ту часть взрослой пациентки, которая зафиксировалась в своем развитии на времени этого события, Маленькой Мэри. В ходе работы терапевту удалось выяснить, что “детская часть” личности пациентки (Маленькая Мэри) все еще пыталась убедить мать в своей невиновности и объяснить, что ей очень нужны защита и поддержка (это стало явным в ходе психоаналитического переноса). Пациентка поняла это буквально и стала разговаривать с Маленькой Мэри как с независимым существом.
Вскоре она сообщила о периодах амнезии, во время которых, по словам членов семьи, она вела себя ненормально и странно. Она также стала приносить на сеансы листки с текстами о матери, написанные неразборчивым детским почерком. Для того чтобы предоставить Маленькой Мэри возможность поговорить с терапевтом, было проведено несколько интервью (с использованием гипноза для облегчения появления предполагаемой альтернативной личности), в ходе которых пациентка очень убедительно вела себя как шестилетний ребенок. Затем она согласилась попробовать снова объединить две части своей личности: детскую и взрослую.
Под гипнозом пациентку попросили вернуться в то время, когда отец домогался ее, и одновременно посмотреть на эту сцену глазами своего взрослого “Я”. Сцена проигрывалась без вмешательства терапевта до того момента, когда ребенку было сказано уйти в свою комнату. Тогда терапевт попросил пациентку выйти на сцену в роли своего взрослого “Я”, встретить на лестнице ребенка, взять его на руки, утешить и успокоить, и вообще действовать так, как она поступила бы с любым другим ребенком в подобной ситуации.
Она должна была продолжать в таком духе, пока ребенок полностью не успокоится, и затем вернуться в настоящее.
Пациентка сообщила об успешном выполнении задания по восстановлению самообладания ребенка. Однако важнее оказалась полученная возможность признать своим взрослым “Я”, что ее детское “Я” (или она сама во время события) действительно было невиновным. Убеждение пациентки в том, что она была “грязной”, в ходе этого сеанса значительно преобразовалось.