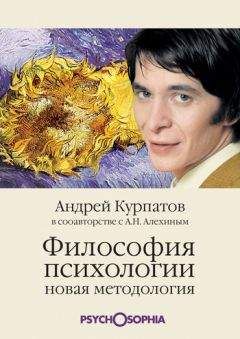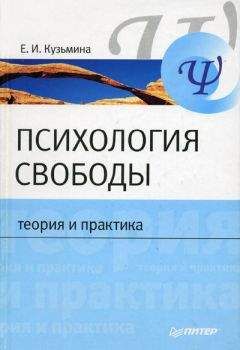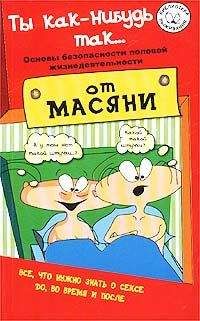Андрей Курпатов - Индивидуальные отношения. Теория и практика эмпатии
Наше мышление диалогично, даже если нет ни борьбы мотивов, ни конкурирующих «субличностей», оно все равно диалогично. Человек мыслит значениями, а выражает свои мысли в знаках, которые интерпретируются собеседником исходя из его собственных значений этих знаков. Так что, наше мышление диалогично по самой своей структуре, генезу. Поскольку же мы сами, как нам кажется, вполне можем себя понять (по крайней мере, в данной ситуации при определенном наборе вводных), у нас и возникает иллюзия, что мы можем быть поняты. Разумеется, мы не свободы и от иллюзии, что прекрасно, лучше их самих, понимаем окружающих. Но кто отдает себе отчет в том, что мы понимаем себя еще до того, как мы сформулировали свою мысль? И кто из нас готов отказаться от собственной, всегда такой удобной для нас, интерпретации поведения других людей? Вряд ли таковых много.
Здесь же следует отметить, что вся эта мифология «взаимопонимания» носит отчетливо моральный оттенок и содержит в себе подтекст нравственного характера. Требование «понимания», таким образом, оказывается, по сути, ультимативным этическим императивом. Однако, этоэстетика настаивает на том, что истинная, живая этика исходит из человека, а не приходит к нему откуда-то извне. Поэтому получить ее невозможно, ее можно только дать. Причем, живая этика – это то, что может быть, поскольку у нее есть субстрат, носитель – человек. С моралью дело обстоит куда хуже – она, суть, идеал, то есть вещь, ни на чем не основанная, не имеющая субстрата. Ее основа – абстрактный прагматизм общественного мнения, не имеющий никакого отношения к действительной реальности. Мы можем сколь угодно рассуждать об обществе и тому подобных вещах, тогда как на деле все имеющие место отношения – это отношения между двумя. Кроме того, общественная мораль зиждится на огромном количестве других идеалов (таких, как «справедливость», «нормы приличия» и так далее), а потому назвать ее здравой просто нельзя. Она есть правдоподобие, но в ней нет правды. Правда – в каждом конкретном случае своя, а вот правдоподобие вполне может быть общим, сразу на всех.
Когда человек, страдающий от тягот социального одиночества, в один прекрасный момент взрывается и требует, чтобы его поняли, он, на самом деле, ищет поддержки не у людей, а у этой идеальной конструкции морали, столь же мертвой и безответной, как и все, что существует лишь в пространстве идеалистических представлений. Искать помощи у морали, живущей вне нас, у некой «из-вне-морали» – занятие, прямо скажем, бесперспективное. Поскольку же в результате такого аффективного обращения помощь нашему герою так и не приходит, он испытывает еще большее разочарование и погружается в еще большее одиночество, теперь уже намеренно формируя вокруг себя границы, способные отделить его от мира. Это самостоятельное нарушение целостности по механизму ограничения, самоограничением. В социальном одиночестве мы встречаемся с самым настоящим ограничением собственной целостности, что значительно хуже и тяжелее переносится человеком. Талант к нарушению собственной целостности через самоограничение – одна из самых трагических наших способностей. Человек не отдает себе отчета в том, что вся эта его внутренняя несвобода есть, по большому счету, лишь несвобода от собственного страха. «Страх есть скованная свобода, когда свобода не свободна в самой себе, но скована – и не в необходимости, но в себе самой» 129, – писал С. Кьеркегор.
Ощущение того, что тебя «не поймут никогда», – тяжелейшее переживание социального одиночества. Родион Раскольников в романе Ф.М. Достоевского абсолютно уверен в том, что его никто не сможет понять, он даже бравирует этим ощущением, этой уверенностью. Он словно специально рассказывает о своем преступлении Заметову, возвращается на место преступления, где, как будто возвещая о себе, звонит в дверной колокольчик, здесь же его странное отношение со Свидригайловым, Порфирием. Какая-то абсолютная уверенность в своем одиночестве – звоню, бью в колокол, а все равно не услышат! Вот слова, которыми он отвечает Соне на ее призыв раскаяться: «Не пойду. И что я скажу: что убил, а денег взять не посмел, под камень спрятал? – прибавил он с едкою усмешкой. – Так ведь они же надо мной сами смеяться будут, скажут: дурак, что не взял. Трус и дурак! Ничего, ничего не поймут, они, Соня, и недостойны понять»130.
Итак, мы показали узловые точки проблемы. Теперь наша задача состоит в установлении очень важной дефиниции, которая проистекает из нашего положения об анти-сущностности социального одиночества. И здесь мы обратимся к размышлениям Ф. Ницше о паре «аполлонизм-дионисийство», на которую, отнюдь не случайно, обратил свое внимание К. Юнг.
При создании своего учения о аполлонистическом и дионисийском началах, изложенном в «Происхождении трагедии», Ф. Ницше опирается на работы А. Шопенгауэра. «Principium individuationis» (принцип индивидуации), который фактически олицетворяет аполлонистическое начало, изъят Ф. Ницше непосредственно у А. Шопенгауэра из его работы «Мир как воля и представление». Впрочем, именно в ней А. Шопенгауэр, со всей своей пессимистической убежденностью, отрицает индивидуальность индивидуальности, сводя все к безличной общности. «Мы видим, – пишет А. Шопенгауэр, – что индивид возникает и гибнет, но индивид – только явление, он существует лишь для познания, подчиненного закону основания, principio individuationis; с точки зрения этого познания, индивид, конечно, получает свою жизнь в дар, возникает из ничто, в смерти несет утрату этого дара и возвращается в ничто»131. А как раз в этом и состоит сущность дионисийства, «не считающегося, – по мнению Ф. Ницше, – с отдельной личностью и даже пытающеегося уничтожить индивид или вызволить его с помощью мистического ощущения единства»132.
Можем ли мы сказать, что в эти философские размышления закралась какая-то ошибка? Если и так, то исправить ее пытался К. Юнг в своих знаменитых “Психологических типах”. Критикуя трактовку principium individuationis А. Шопенгауэром, К. Юнг пишет: «“Воля” Шопенгауэра также лишена “Я”»133 , а затем предлагает уже совершенно новое, а не спекулятивное понимание этого принципа, опираясь на Ф. Ницше. Для Юнга индивидуация – это личностное индивидуальное становление (к сожалению, здесь возникают проблемы с «коллективным бессознательным», поскольку этот термин К. Юнга отсылает нас обратно к общности, но для автора это «тотальность индивида»134, поэтому нам остается просто принять данное содержательное противоречие). «Я использую выражение “индивидуация”, – пишет К. Юнг, – в следующем смысле: это есть процесс, порождающий психологического “индивида”, то есть обособленное, нечленимое единство, некую целостность»135. И эта позиция предлагает принять следующую дефиницию аполлонизма и дионисийства, а критерий для этого вырисовывается жесткий и, к счастью, однонаправленный. Аполлонизм – это процесс реализации индивидуации личности, дионисизм – это, напротив, отказ от индивидуации. К. Юнг говорит о дионисийстве, что это «ужас от попрания принципа индивидуации и вместе с тем “блаженный восторг” оттого, что он попран»136.
Это положение возвращает нас к тезису о невозможности непосредственного взаимопонимания: аполлонизм – есть индивидуация, однако, если мы останавливаемся лишь на этом, нам придется расстаться с надеждой на подлинное взаимопонимание с миром другого человека. Трагичность этого вывода осознана и А. Шопенгауэром, и Ф. Ницше, а К. Юнг заключает, что аполлонизм – есть воплощение интроверсии, тогда как дионисийство, напротив, – экстраверсии. Аполлонизм – это наша «внутренняя сущность», ее жизнь, при этом понятно, что как бы мы того ни хотели, нам не дано ее экстравертировать полностью. Она, как неисчерпаемый колодец, не можем быть вычерпана, она – источник нового, новых отношений, поэтому, сколько бы мы ни выносили ее наружу, всегда остается что-то новое, что постоянно появляется в нас. Странно ли, учитывая это постоянное обновление, которое происходит быстрее, чем мы способны обновлять себя для другого, что право на понимание другим является чистой фикцией? Это невозможно, и в этом сама суть социального одиночества.
Именно поэтому личности оказывается проще отказаться от себя и впасть в безумство дионисийства, нежели продолжать безрезультатные попытки осуществить неосуществимое. И не потому ли дионисийство, инструментарий которого становится все более и более изощренным, все сильнее преобладает над индивидуальным началом в современном мире? И если Ф. Ницше сравнивал дионисийство с опьянением, то мы уже имеем более яркие примеры для сравнения – наркомания, лишающая человека человеческого облика, сексуальность, лишенная личного начала и эротизма, трансформирующая в порнографию, массовая культура, лишенная чувственности эстетического переживания, обращенная к рефлексам, а не к высшим чувствам, сектантство, в котором человек лишается не то что права, но самого шанса на личное отношение с Богом. Психотерапевтическая практика, к сожалению, постоянно демонстрирует нам эти примеры современного дионисийства, и год от года картина оказывается все более плачевной.