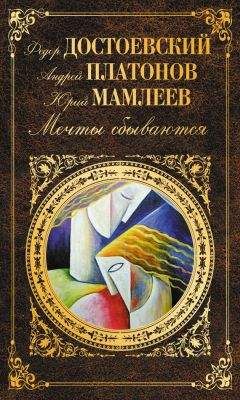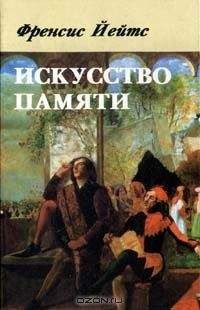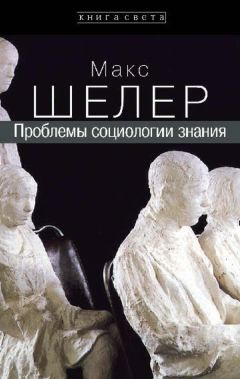Иван Болдырев - Время утопии: Проблематические основания и контексты философии Эрнста Блоха
Одна из очевидных форм этой радикальности – возможность преодоления смерти. Но Адорно подчеркивает, что утопия не была бы подлинной, если бы в ней просто изображалось общество бессмертных. Суть утопической идеи – ее парадоксальность, противоречивость, утопия говорит о преодолении смерти посреди смерти, изнутри невыносимой в своей принудительности ситуации смертных существ. Преодолеть смерть – значит преодолеть несвободу. Именно такое преодоление и становится самым красноречивым примером того, что в критической теории Адорно и Хоркхаймера называется «радикально иным». Но именно поэтому суть этой теории – отказ от изображения утопического, близкий, как утверждал Хоркхаймер, иудейскому запрету на изображение Бога и на произнесение Его имени[618]. Любопытно, что эту же мысль – понятую буквально – Блох высказывал в «Духе утопии», когда настаивал на особой роли музыки, заменившей собой ясновидение и не предполагающей объективированных, чреватых фетишизацией образов, музыки, которая становится тем самым утопическим медиумом, неуязвимым перед силами воплощения и овеществления.
Итак, у Адорно утопия может быть только негативной – то есть, как он говорит, мы хоть и не можем изобразить ее, как не можем мы и знать, каков правильный путь, но зато нам точно известно, что не так и с чем нужно бороться (TL, 362f.). И в самой настойчивости, с какой каждому из нас является эта мысль – что все могло бы быть иначе, «чего-то недостает» (Блох и Адорно вспоминают фразу из пьесы Брехта), – в самой этой настойчивости уже есть момент реальности – если бы утопия была бы совершенной невозможностью, вряд ли мысль о ней возникала снова и снова. Ощущение нехватки, того, что в мире что-то не так, постоянно присутствует и в текстах Блоха. Вспомним хотя бы его метафизику комедии, написанную как критику в адрес Лукача, где проводником этого ощущения становится смех. Не случайно в таком контексте немедленно приходит на ум и теория романтической иронии Шлегеля, чье остроумие (Witz) – «фрагментарная гениальность»[619], как и надежда у Блоха, даруя легкость и свободу, на дает никаких гарантий и обязательств[620], не читает проповедей о прошлом и не предрекает заранее известное будущее.
Характеризуя гегелевское мышление, Адорно пишет: «Сияние, которое в каждом из своих моментов обнаруживает целое как неистинное, есть не что иное, как утопия, утопия целостной истины, которую еще нужно осуществить»[621]. Это сияние, эта образность нужны для изменения мира, и Блох ощущал эту потребность сильнее, чем Адорно, не страшась объективации и затвердевания утопической материи и вместе с тем, как и Адорно, глубоко чувствуя внутреннюю фальшь мира, в котором никто ничего не ждет и где всем все понятно.
Для исследователей философии Блоха Адорно поставил принципиальный вопрос: можно ли отделить позднюю систему от ранней экспрессии, учение о категориях в «Experimentum mundi» от литературного опыта «Следов»? И разве не превращает Блох экспрессионистский «выкрик» в систему понятий, не перелицовывает опыт темноты и поиска самости совсем на иной лад, заковывая его в онтологические схемы? Возможно ли в принципе такое превращение и не есть ли оно предательство по отношению к изначальному опыту утопии? Наконец, как понимать этот опыт, относится ли он к «радикально иному» или, как возражает Блох в своей поздней философии, явно или неявно полемизируя с Адорно, наоборот, – к тому, что нам ближе всего (PH, 1417)?
Э. Симонс считает, что решение Блоха – монтаж, неопосредованное сочленение системного и экспрессивного начал, при котором никакого обоснования того, удачен ли он в том или ином случае, не дается. Остается сказать лишь, что и не может быть дано, ибо такие оценки суть эстетические суждения вкуса и могут выноситься лишь задним числом. С точки зрения Симонса, в итоге Адорно прав, и система, вместо того чтобы «защищать» чувствительный и хрупкий экспрессивно-пророческий опыт от непониманий и искажений[622], тотализирует его и тем самым предает.
В этих сомнениях, в претензиях, которые Адорно предъявляет Блоху не от лица своей философии, а исходя из внутренних потребностей самого утопического проекта, словно взывая к критической совести «философа надежды», безусловно, содержится главный урок их полемики, отнюдь не отменяющий внутреннего их родства.
Адорно и Блоха объединяет то же, что объединяет утопическое мышление и мышление критическое. Именно поэтому Блох так настаивает на опасности овеществления и закоснения образов будущего. Отказ от утопии или ее инструментализация ведут к тоталитаризму – мы либо вообще изгоняем фантазию об ином из нашей жизни, либо заменяем ее обсуждением чисто технических проблем, и утопия «замыливается», оборачиваясь диктатурой и подавлением личности.
В одобрительных откликах Адорно можно расслышать все то, что говорилось в конце главы IV: Блох – создатель тонкой философской прозы, и рассказанные им истории и есть его философия[623]. Конечно, исторически правильным было бы замечание о том, что Блох как созидатель «системы» был заложником собственных понятий, принужденным отстаивать и прояснять их до тех пор, пока и философская их значимость, и революционный потенциал не оказались исчерпаны.
Но, быть может, банальный инструментализм поздних онтологических построений, выискивание во всяком бытии «еще-не-бытия», превращение любого значимого духовного выражения в знак утопической истины – все это не более чем символы, которые должны быть преодолены внутри самой утопической философии, предварительные остановки, на которых мы переводим дыхание? Ведь балансировать между фетишизацией утопического идеала и топким болотом «реальности» (где, как нам порой кажется, мы «твердо стоим на ногах») – бесконечно трудно. А именно по этой кромке хочет пройти наш герой, когда проблематизирует основания собственного мышления, когда, не боясь диффузии культурных форм, отыскивает в художественном и социальном опыте тот ускользающий след утопии, который ортогонален системе обычных вещей и который учит жить в мире, доставшемся немецким интеллектуалам после войны.
Заключение
Один из лучших, пожалуй, примеров такой формы мышления, которая могла бы служить развенчанию утопической философии Блоха, дал Франц Кафка в своем наброске «Городской герб», где говорится о сооружении Вавилонской башни. Обосновывая «мнение, что строить нужно как можно медленнее», обитатели города строителей, занятые строительством идеологическим, рассуждали:
[С]амое главное во всем этом предприятии – мысль построить башню, которая достанет до неба. По сравнению с этой мыслью все прочее второстепенно. Мысль эта, во всем своем величии явившись однажды, уже не может исчезнуть; пока будут на свете люди, будет и сильное желание достроить башню[624].
Эта безумная утопическая цель, которая должна была скреплять человечество воедино, возносить его к небу, к которой должны были сводиться все его помыслы, следующим поколениям уже казалась бессмысленной, но никуда деться из этого города они не могли. Высокую цель заменили промежуточными, и до строительства башни руки так и не дошли.
История башни интересна не только тем, что показывает, как легко утопия может обнищать, закоснеть, как мало нужно людям, чтобы самим загнать себя в ловушку большой идеи. Важно и другое: у Кафки строители втайне или открыто, но желают вырваться из этой ловушки – они ждут апокалипсиса – того дня, «когда город, пятью следующими через короткие промежутки ударами, разрушит исполинский кулак. Поэтому-то кулак и изображен на гербе города». В каком-то смысле Блох избрал противоположный, параллельный путь – от предчувствия, даже заклинаний апокалипсиса, от тоскливой безысходности дольнего мира – к утопии, которая нигде и никогда не воплотима до конца, но хранит надежду, героями Кафки утраченную давно и навсегда.
Идя по следам, которые Блох оставил в истории мысли, мы, конечно, многому научились. Полемизируя с Лукачем, он учредил пространство коммуникации между авангардным искусством и марксистской критикой, под влиянием методологических идей «Теории романа» искал языки описания для философии, которая узнавала бы себя в литературе. Мышление молодого Блоха стало оселком, на котором испытывал себя иудейский мессианизм во всем напряжении своих противоречий между новым трепетом и нелепой монументальностью собственных притязаний, между поиском духовной свободы и теми тысячами тысяч, которые даже не успели понять, за что и почему они раздавлены историей. Этот мессианизм явлен нам не только в апокалиптических пассажах из «Духа утопии» или в «Теолого-политическом фрагменте», мессианскому ритму подчинены герои трагедии, романа, барочной «драмы скорби», мессианство задает логику литературных жанров.
Конечно, мы должны спрашивать, чем в наши дни может стать наследие Блоха, с его навязчивой идеей о том, что все сны когда-нибудь сбудутся, с его странноватым оптимизмом и с проповедью гуманистических ценностей от имени Маркса. Сможет ли философия утопии сегодня, когда с новой силой заявляет о себе апокалиптическое сознание, стать для нас вполне подходящим языком описания и стилистическим ориентиром?