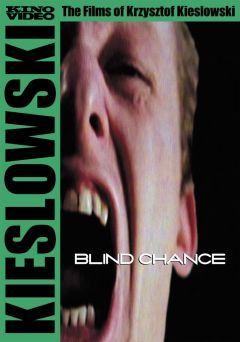Люк Райнхарт - ДайсМен или человек жребия
Какое-то время я лежал на кровати и смотрел в потолок. Я слышал голоса проходящих по коридору людей, а потом только неясный отдаленный гул доносился из гостиной. Дверь открылась, вошла Лил.
— Что случилось? — резко спросила она. Она была безупречно красива в своем черном вечернем платье с глубоким вырезом, но глаза были холодны, а губы сжаты. Я поднял на нее глаза и почувствовал внутри пустоту: что за время и место для такого объяснения?
— Доктор Крум сказал, что тебе было плохо. Ты исчезаешь с Блонди, а потом вдруг объявляешься больным. Что случилось?
С трудом я принял сидячее положение, стащил ноги с кровати и опустил на пол. Я поднял на нее глаза.
— Это длинная история, Лил.
— Ты приставал к Блонди.
— Длиннее, гораздо длиннее.
— Я тебя ненавижу.
— Да. Это неизбежно, — сказал я. — Я — дайсмен, Человек, живущий по воле Жребия.
— Ты был знаком с ней раньше? Фред вроде бы говорил мне, что сам только что с ней познакомился.
— Я никогда ее раньше не видел. Ее бросили на моем пути, и Жребий велел взять ее.
— Жребий? О чем ты говоришь?
— Я — Человек Жребия. — Скрюченный пополам и всклокоченный, боюсь, я выглядел не слишком впечатляюще в это мгновение. Мы смотрели друг на друга, разделенные всего шестью футами, в маленькой спальне музея-мавзолея доктора Манна. Лил покачала головой, будто пытаясь прочистить мозги.
— Можно поинтересоваться, что такое «дайсмен»? Снова появились доктор Крум и Арлин. У доктора Крума черный чемоданчик, точь-в-точь как у врачей общей практики в начале XIX века.
— Фам лучше? — сказал он.
— Да. Спасибо. Я буду жить.
— Хорошо, хорошо. У меня есть обезболифающее. Фы хотите?
— Нет. Это не понадобится. Спасибо.
— Что такое «дайсмен», Люк? — повторила Лил. Она не сдвинулась с места с того момента, как вошла в комнату. Я видел, что Арлин смотрит на меня. Я чувствовал на себе ее взгляд, когда повернулся к Лил.
— Дайсмен, живущий по воле Жребия, — медленно сказал я, — это эксперимент по изменению личности, по разрушению личности.
— Есть интересно, — сказал доктор Крум.
— Продолжай, — сказала Лил.
— Чтобы разрушить цельную доминирующую личность, человек должен научиться развить в себе много личностей; человек должен стать множественным.
— Ты тянешь время, — сказала Лил. — Что такое «дайсмен»?
— Дайсмен, — сказал я и перевел взгляд на Арлин, а она, распахнув глаза и насторожившись, смотрела на меня, будто я был увлекательным фильмом, — это создание, чьи поступки день за днем определяются Жребием. Человек придумывает варианты, бросает кубик, и Жребий выбирает один из них.
Наступила пауза, которая продолжалась, наверное, секунд пять.
— Есть интересно, — сказал доктор Крум. — Но трудно с циплятами.
Все опять замолчали, и я перевел взгляд на Лил, а она, стоя прямо, полная достоинства, красивая, подняла руку и потерла виски. По выражению ее лица было видно, что она потрясена.
— Я… я никогда ничего для тебя не значила, — сказала она тихо.
— Это не так. Мне всё время приходится бороться со своей привязанностью к тебе.
— Давайте, доктор Крум, оставим их, — сказала Арлин.
Лил повернула голову и перевела взгляд на темное окно, не обращая внимания на Арлин и доктора Крума.
— Ты делал все это со мной, с Ларри, с Эви, потому что Жребий?.. — наконец сказала она.
На этот раз я не ответил. Доктор Крум, качая головой, переводил недоуменный взгляд с меня на Лил и снова на меня.
— И ты был способен использовать меня, врать мне, изменять мне, издеваться надо мной, совращать меня и при этом оставаться… счастливым.
— Ради чего-то более важного, чем любой из нас, — сказал я.
Арлин потянула за руку доктора Крума, и они исчезли за дверью.
Лил смотрела на обручальное кольцо на левой руке и с грустным и задумчивым видом потерла его пальцами.
— Всё… — она медленно, словно во сне, покачала головой. — Всё, что было между нами год… нет. Нет. Всю, всю нашу жизнь, идет прахом.
— Да, — сказал я.
— И все из-за того, что ты… из-за того, что ты хочешь играть роль этого своего маньяка, развратника, хиппи, дайсмена.
— Да.
— А что, что, если бы я тебе сейчас сказала, — продолжила Лил, — что у меня уже год роман с… я знаю, это звучит глупо… но роман с механиком из гаража внизу?
— Это замечательно, Лил.
Ее лицо пронзила боль.
— Что, если бы я сказала тебе, что сегодня вечером, прежде чем прийти сюда, когда я укладывала детей, следуя своей теории о том, что нужно сохранять невозмутимость, я… я задушила Ларри и Эви?
Вот до чего мы дошли. Старая супружеская пара, болтающая о том, как прошел день.
— Если бы это было сделано ради… какой-то полезной теории, это было бы…
Нет больше той любви, как если кто положит детей своих за теорию свою.
— Ты бы, конечно, убил их, если бы Жребий велел тебе это сделать, — сказала Лил.
— Я не думаю, что когда-нибудь мог бы отдать этот конкретный вариант в руки Жребия.
— Только адюльтер, воровство, обман и измена.
— Я мог бы отдать Ларри и Эви в руки Жребия, но и себя тоже.
Теперь она качалась на каблуках, сцепив руки перед собой, всё такая же безупречно красивая.
— Полагаю, мне нужно быть благодарной, — сказала она. — Тайна раскрыта. Но… но нелегко, когда о смерти человека, которого ты любил больше всего на свете, тебе сообщает его… его труп.
— Интересная мысль, — сказал я.
даисмен, или челивек лреиии
Голова Лил дернулась назад, ее зрачки медленно расширялись, и вдруг она бросилась на меня с судорожным визгом, вцепилась мне в волосы и стала бить меня кулаками. Я сжался, чтобы защитить себя, но чувствовал такую пустоту внутри, что удары Лил были как легкий дождь, падающий в пустой бочонок. Вдруг я вспомнил, что время очередной консультации со Жребием давно прошло. Мне было наплевать. Мне на все было наплевать. Удары прекратились, и Лил, громко плача, побежала к двери. Там стояла насмерть перепуганная Арлин, она поймала Лил в свои объятья. Они исчезли, и я остался один.
41
Вот сейчас я сижу и пишу о той далекой ночи, и трагедии и комедии всё так же цветут вокруг меня пышным цветом, и я продолжаю изо дня в день, из года в год исполнять роли, и, без сомнения, от роли дайсмена я тоже рано или поздно откажусь. Роли, роли. Сегодня главный герой, завтра статист. Водевиль — комик — шекспировский шут. Альцест[117] утром, Гари Купер и хиппи днем, Иисус ночью. Точно не могу вспомнить, когда я перестал играть: когда Жребий начал выбирать жизненные роли, когда тому, что осталось от моей личности, не надо было им сопротивляться, и не было дайсмена, испытывающего прилив гордости. Остались только жизни, которые можно было прожить. Помню, оставшись один после ухода Лил в той комнате в ту ночь, я чувствовал полное, радостное и необузданное горе. Я испытывал боль, я страдал, я был там.
А ты, Приятель, растянувшись на кровати или сидя в кресле, наверное, хихикаешь, когда я пускаю слюни, как Калибан, улыбаешься моим страданиям, как честный человек, или вздыхаешь, когда я неуклюже валяю дурака, подводя философскую базу под свое безумие, и читаю тебе лекции о метафоре жизни как игры. Но я и есть честный человек — со всем его бессмысленным состраданием к тем, кто способен чувствовать, — я и есть дурак. Я был Раскольниковым, поднимавшимся по лестнице, Жюльеном Сорелем[118], слышавшим, как часы бьют десять, Молли Блум, извивавшейся под ритмичными толчками члена Буяна Бойлана[119]. Страдание — это один из моих костюмов, к счастью надеваемых не так часто, как мой шутовской наряд.
А ты. Читатель, хороший приятель и такой же болван, как и я. Да, ты, мой читатель, милое пустое место, ты и есть Живущий по воле Жребия. Если ты дочитал до этого места, то обречен нести с собой выжженную навсегда в твоей душе личность, которую я здесь изобразил: личность дайсмена. Ты многолик, и я часть тебя. Я запустил в тебя блоху, и от нее у тебя будет вечный зуд. Ах, Читатель, не надо было давать мне родиться. Конечно, другие «я» тоже то и дело кусаются. Но блоха Живущего по воле Жребия требует, чтобы ты непрерывно чесался: дайсмен ненасытен. Тебе никогда больше не прожить и мига без зуда — если, конечно, ты не станешь блохой.
42
На краю кровати, один — а вечеринка снаружи, казалось, вернулась к тому же деловитому гулу — сидел доктор Райнхарт, ссутулившийся, оцепеневший. Теперь отступать было некуда. Или он дайсмен, или никто. Его тело знало, хоть он и не осознавал этого, что существовать как Люк Райнхарт теперь невозможно. Оцепеневший, он не подчинился Жребию и не смотрел на свои «часы» почти десять минут. Но идти больше было некуда, быть было некем, и он достал часы с кубиком и посмотрел.