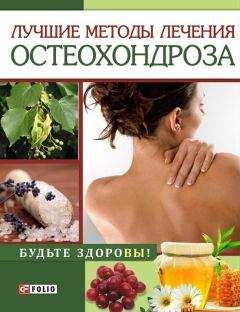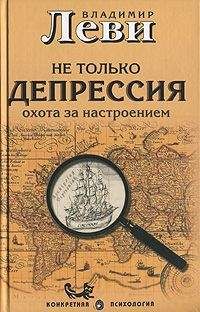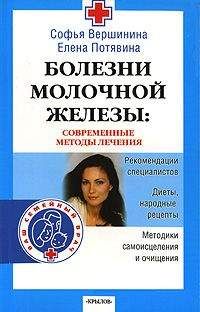Империя депрессии. Глобальная история разрушительной болезни - Садовски Джонатан
О сне в мемуарах говорится довольно много: спят долго, мало или вообще не спят. Длительность пребывания в постели имеет множество значений и мотиваций. Частью их является физическая усталость и бесконечная апатия. Салли Брэмптон пишет о «нырке под одеяло»: как она пряталась в кровати, не отвечая на звонки, отвергая все приглашения; так выглядит та самая добровольная социальная изоляция меланхолика, известная еще с античных времен[623]. Для Шерон О’Брайен перспектива сна и снотворного означала передышку от мучительного бодрствования[624]. У Брюса Спрингстина, с его легендарным сценическим драйвом, был депрессивный эпизод, когда под грузом непрошеных мыслей и неумолчного беспокойства он не мог подняться с постели:
Мне было неудобно делать все. Стоять… ходить… сидеть… все вызывало приступы необъяснимой тревоги… Все, что меня ожидало, – злой рок и дурные знамения, укрыться от которых можно было лишь во сне. Если я не смогу работать, как я буду кормить семью? Если я так и буду прикованным к постели? Кто я вообще, черт возьми, такой? Ты чувствуешь, как истончается твое самосознание[625].
Состояние прикованности к кровати может казаться чрезмерным – вплоть до недобровольного. Тем не менее те, кто страдает депрессией, размышляют о границе между болезнью и нормальными жизненными невзгодами. Если частые мысли о самоубийстве – четкий критерий серьезности состояния, Лора Инман была действительно больна, поскольку совершила несколько попыток суицида. Но когда утром она не желала вставать с постели, она порой спрашивала себя: а что, разве не у всех такое бывает?[626]
Если у вас есть интерес к жизни, то и вставать по утрам легче. Одна из самых острых потерь депрессии – потеря жизненных смыслов. Дженни Диски, видя на экскурсионном корабле кита, описывает это так: «Кит мне понравился так же, как мог понравиться любой другой человек»[627]. Словно уточняя: вообще не понравился. Хотя Диски – автор девятнадцати книг – достаточно красноречива в описании своей пассивности:
Леность всегда была моей неотъемлемой чертой… кажется, единственным качеством, каким я обладаю… а также в том смысле, что в праздности я чувствую себя собой. Не помню, когда мысль о том, чтобы пойти на прогулку, не казалась мучительной. Что до свежего воздуха, я не большая его любительница. Да, он придает бодрости, этого не отнять; но мне крайне редко хочется чувствовать бодрость[628].
Пренебрегая хорошим и прекрасным
Казалось бы, то, что должно приносить удовольствие, на деле мучает больше всего остального. Психолог Марта Мэннинг как-то проводила отпуск в Монтане посреди глубокой депрессии: «Знаю, красиво тут и все такое, но, если быть совсем честной, – терпеть не могу природу»[629]. Отправившись в поездку в Диснейленд, Дэвид Карп остро ощутил разницу между тем, как ему полагалось себя чувствовать в самом радостном месте на земле и как он ощущал себя на самом деле[630]. Подруга пыталась подбодрить Джеффри Смита какой-то оптимистичной мелодией, но веселье и яркость музыки ощущались для него как оскорбление[631]. «Хорошая» погода сама точно насмехается над страдающими депрессией. Салли Брэмптон писала: «Ненавижу солнце. Потому что когда оно светит, я должна быть счастлива»[632]. В один из хороших солнечных дней подруга спросила Брэмптон, как она может грустить в такую погоду? На что она ответила: «А если бы я болела гриппом, ты бы задала этот вопрос?»[633] Дафна Меркин пишет, что это один самых точных тестов на депрессию: когда в первый погожий день весны все остальные заново чувствуют надежду и прилив сил, больные депрессией продолжают пребывать в мрачном зимнем расположении духа[634].
Бытует мнение, что христианские писатели могли считать, что их вера требует того, чтобы они были радостными[635]. Поэтому средневековые монахи, впавшие в уныние, взваливали на себя еще и ношу греха, которым виделась их болезнь. Мартин Лютер считал, что христианину подобает быть счастливым, поэтому меланхолия виделась ему поводом для чувства вины. Джиллиан Марченко считала, что главный постулат христианства – надежда, а депрессия – это, прежде всего, потеря надежды. На протяжении всего сочинения Марченко прослеживается скрытое чувство вины за то, что она вообще заболела, подразумевая, что в ней недостаточно любви к Богу, а также за то, что утрата интереса распространяется даже на Иисуса. Однако и здесь она задается вопросом о том, где же проходит черта между нормальным состоянием и болезнью. Вера, по ее словам, дается ей тяжело, но разве не у всех такое бывает?[636]
Забвение
Если Дженни Диски не хотела быть бодрой, что же ей было нужно? Забвение. Это слово часто фигурирует в мемуарах о депрессии, но не в значении того, как себя чувствуют страдающие депрессией, а при описании того, чего бы они хотели. Салли Брэмптон пишет: «Я не хочу спать, я хочу забыться»[637]. Как-то, почувствовав улучшение, Джиллиан Марченко написала: «Я по-прежнему хочу прекратить быть»[638]. Желание забытья часто приводит к употреблению лекарств. Салли много пила и употребляла «Валиум» и «Ксанакс». Дженни наглоталась «Нембутала», принимаемого матерью, – не столько желая умереть, сколько просто прекратить все[639]. Это выглядит как попытка суицида, – разумеется, в случае депрессии этого исключать нельзя, но сразу несколько авторов подчеркивают: желание забыться – вовсе не то же самое, что стремление к смерти, это намерение прекратить страдания. Мэтт Хейг писал: «Я хотел умереть. Нет, не так. Я не хотел умереть. Я просто не желал быть живым»[640].
Суицидальные наклонности имеют свою шкалу: от смутного чувства, что было лучше бы умереть, до более активных фантазий касательно того, как этого можно добиться и конкретного поэтапного планирования[641]. Брэмптон пишет, что эти стадии знакомы каждому, кто сталкивался с депрессией. Сама она в итоге покончила жизнь самоубийством.
Лечение, выздоровление, ущерб и сожаления
Большей части авторов так или иначе удалось найти способ лечения, который им помог, и они дают живое описание целительной силы лекарств. Многие из описаний скорых и неожиданных преображений таковы, что даже мысли о том, что это все может быть из-за эффекта плацебо, невыносимы[642]. Тим Лотт пишет, что не верил, что лекарства ему помогут, но все равно решил их принимать и считал, что облегчение симптомов было стопроцентным. После короткого курса «Прозака» Лорен Слейтер впервые почувствовала себя здоровой. Навязчивые симптомы ушли, и она заново стала чувствовать и понимать свое тело. Лорен наконец ощутила, что становится той, кем она и должна быть[643]. Наконец она выехала из сырой и холодной квартиры на первом этаже и заново научилась получать удовольствие от жизни:
Я откусила от яблока и получила удовольствие. А еще мне стало нравиться белое кресло, в котором я дремала и раскачивалась, совсем отчаявшись защититься. Я стала чаще принимать ванны – порой даже ароматные, с лепестками цветов. «Прозак» подарил мне тыквенные маффины, желтоперого тунца и сливовый соус[644].
Большая часть сочинений о депрессии утверждает: ЭСТ работает. Многие книги написаны для того, чтобы люди лучше понимали саму болезнь и процесс ее лечения. История Нормана Эндлера не типична, но и не уникальна. Знаменитости вроде Кэрри Фишер или Китти Дукакис написали об основополагающей роли ЭСТ в их излечении от депрессии[645]. Первое, о чем подумала Марта Мэннинг после того, как ей порекомендовали ЭСТ, – известное произведение «Пролетая над гнездом кукушки». Она испугалась, что, если ей порекомендовали что-то настолько радикальное, значит, она в самом деле серьезно больна. Но после нескольких сеансов у нее улучшились сон и аппетит, она перестала пребывать в состоянии постоянного возбуждения: «Я определенно почувствовала, что депрессия отступает»[646]. Многие авторы, получавшие ЭСТ, долго не могли объяснить друзьям, почему хотят лечиться именно так. На вечеринке у Марты как-то спросили: «Как ты могла позволить сделать с тобой такое?»