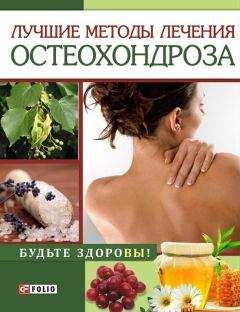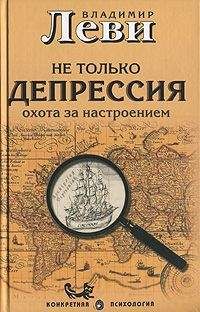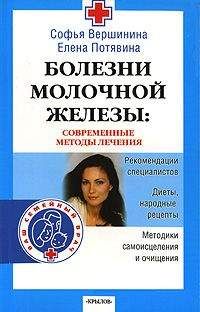Империя депрессии. Глобальная история разрушительной болезни - Садовски Джонатан
В этих дилеммах живет одиночество. Некоторые авторы публиковали мемуары в сокращенном виде в популярных СМИ, после чего получали огромное количество откликов от незнакомцев, осознавших, что увидели себя в новом свете и с облегчением узнали, что не одиноки. Многие из тех, кто писал Томпсону, признавались: их боль впервые называли болезнью, а не слабохарактерностью[590].
Как я здесь оказался?
Причины более смахивают на выдумку, чем на факт. Тим Лотт[591]
Для Эстер Гринвуд опыт ЭСТ оказался жутким. Для Сильвии Плат история тоже оказалось куда сложнее. Ей было очень страшно, но одна из сессий ЭСТ немедленно возымела глубокий терапевтический эффект. Кому-то ЭСТ может показаться самым физическим из всех существующих способов лечения, однако Плат трактовала и болезнь, и лечение в психоаналитических терминах. Сильвия полагала, что ее мучило подсознательное чувство вины, от которого ЭСТ во многом избавила ее, потому что сама процедура была тем еще наказанием[592].
Объяснения, которые сами пациенты дают своей болезни и процессу лечения, могут как отталкиваться от преобладающих медицинских моделей, так и противоречить им. Плат пользовалась психоаналитическими идеями, преобладавшими в ее время. Многие мемуары об ЭСТ появились позже, и, хотя процедура по-прежнему вызывала нарекания, «наказанием» ее не называл никто. Мало кто из современных авторов отталкивается от неосознаваемой вины или гнева, обращенного внутрь, как от источника заболевания. Неудивительно, что многие ссылаются на химический дисбаланс, хотя есть и большая группа людей, отрицающих такой подход.
В своей книге о современной депрессии психолог Гэри Гринберг рассказывает, что, будучи участником клинических испытаний антидепрессанта, он все больше верил в биохимическую природу своей болезни[593]. Лорен Слейтер вторит ему: «Постепенно начинаешь воспринимать точку зрения „Прозака“, что Бог – это вроде скопления молекул, а болезнь – какой-то мозговой сбой»[594]. Но кое-что нелогичное все же остается. Так, к примеру, Лора Инман пишет: «Не понимаю, почему я ощущаю такую черноту из-за каких-то болтающихся внутри моего мозга – и, возможно, делающих это как-то неправильно, – химических веществ»[595].
Что означает молекулярный сбой, понятно не совсем, однако отсылка к этому процессу помогает понять прочие загадки. Психиатр Линда Гаск в своем сочинении «Другая сторона тишины» (The Other Side of Silence, 2015) борется с прошлым, которое видится ей «недостаточно травматичным», чтобы оправдать болезнь[596]. Она считала, что родилась с низким порогом чувствительности к стрессам. Джиллиан Марченко полагала, что самой тяжелой «травмой» в детстве была пара переломов, после которых, по ее признанию, она получила уйму желаемого внимания; правда, имелась у нее склонность задавать философские вопросы вроде «почему я живу?» в возрасте, который, по прошествии времени, кажется ей чрезмерно ранним[597]. Элизабет Вурцель временами смотрела на себя и задавалась вопросом, что и мои студенты после книги Дафны Меркин: с чего бы я, преуспевающая жительница Манхэттена, страдала депрессией? Вурцель в поисках того, с кем можно было отождествить себя, нашла весьма притягательной личность Брюса Спрингстина, поскольку его рабочее происхождение оправдало бы ее депрессию[598]. (Как мы узнаем позже, у Вурцель было куда больше общего со Спрингстином, чем она думала.) Также Элизабет придавала нездоровую важность своему выкидышу, потому что он давал ей право на паршивое самочувствие[599]. При этом многие считали, что должно случиться действительно что-то очень плохое для того, чтобы человек нехорошо себя чувствовал. В таких случаях идеи биохимической теории происхождения депрессии давали возможность ответить на сложные вопросы.
Однако, хотя биохимия исправно служит своей цели и закрепляет восприятие депрессии как болезни, большинство авторов находят, что их страдания не ограничиваются исключительно нарушением химических реакций. Неважно, насколько высоко оцениваются физические средства для облегчения симптоматики – они часто принимают в штыки ситуацию, когда их применяют без оглядки на их внутреннюю и внешнюю жизнь. В книге «Моя борьба с безумием» (My Fight for Sanity, 1959) Джудит Крюгер выразила двоякое отношение к ЭСТ. Курс терапии абсолютно точно облегчил симптомы, однако вызвал физические боли и психическую дезориентацию, но хуже всего – она стала ощущать себя невидимой. Почувствовать себя по-настоящему здоровой она смогла после сеансов с внимательным психоаналитиком: в ходе чего у нее обнаружились подавляемые чувства враждебности и зависти к младшему брату[600]. Элизабет Вурцель куда быстрее начала принимать препараты, чем обратилась к психотерапии, однако, по ее словам, она перешла от четкого убеждения, что происхождение депрессии кроется в проблемах биологического характера, к более гибкому подходу после того, как «скопление жизненных обстоятельств сделало мои мысли настолько уродливыми, что моя голова стала столь гиблым местом, где я попросту застряла»[601].
Глубокое и личное прошлое имело для авторов очень большое значение, а самым важным этапом жизни была жизнь с родителями. Хотя, может, точнее будет сказать так: прошлое без родителей. «Как знакомо», – грустно подумал бы Карл Абрахам.
Видимые и невидимые
Как впоследствии Андре Грин и Элис Миллер, Карл Абрахам обнаружил, что часто заболевают депрессией те, чьи родители из-за собственных травм и неуверенности в себе эмоционально отсутствовали, хотя физически были рядом.
Сдержанный Уильям Стайрон мало что рассказывал о своем детстве. Он пишет, что «многое, несомненно, по-прежнему будет оставаться тайной ввиду непонятной природы болезни», но «впоследствии я постепенно приду к убеждению, что трагическая утрата в детстве, вероятно, стала источником моего собственного расстройства»[602]. Отец Стайрона также страдал депрессией, а мать умерла от рака, когда ему было тринадцать.
Часто ребенок чувствует, что его бросили, даже если родитель физически присутствует в его жизни. Родители Элизабет Вурцель развелись. «Думаю, неважно, полная семья или нет, если родители всегда рядом, то ты ощущаешь положительные эмоции от самого их присутствия. У меня же были оба родителя, которые постоянно выясняли отношения, и все, что они мне дали – фундамент, расколотый надвое, внутри которого – пустота и боль»[603]. Отец Элизабет был вечно занят. Когда ей удавалось проводить с ним время, он спал. Трейси Томпсон описывает своего отца как «веселого», но мало вовлеченного в ее воспитание; ее мать, ревностная христианка, отказывалась принимать дочь такой, какая она есть, будучи чересчур заинтересованной в том, чтобы воспитать ее настоящей христианкой в собственном понимании этого слова. Мать Дженни Диски, сама страдавшая депрессией, отправила ее учиться конькобежному спорту, но это было не столько во благо дочери, сколько ради желания матери иметь возможность похвастаться своим ребенком. Интересно, что Мери Данкуа, которая настаивает на биохимической природе депрессии, однако же, считает развод родителей ключевым фактором своей болезни[604]. Салли Брэмптон описывает своих любящих родителей, но при этом считает, что ее отец страдал недиагностированным расстройством аутического спектра и не был способен ничего дать в эмоциональном плане. В детстве Салли приходилось справляться с глубоким недовольством родителей друг другом, а собственные эмоциональные потребности оставались неудовлетворенными[605]. Девочку отправили учиться в закрытую школу, которую она терпеть не могла, и она чувствовала, что так от нее просто избавились. (Одна из психотерапевтов Брэмптон как-то сказала, что процентов восемьдесят ее пациентов учились в школах-интернатах[606].) Лора Инман утверждает, что никогда по-настоящему не знала своего отца. Лорен Слейтер называет свою мать «отстраненной»[607].