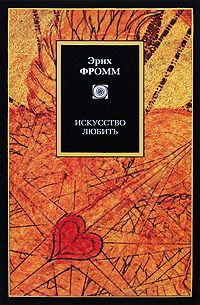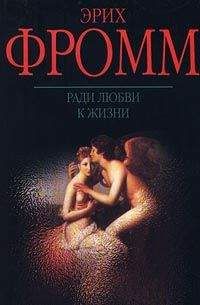Аллан Фромм - Способность любить
В стране Ксанад благословенной
Дворец построил Кубла-хан,
Где Альф бежит, поток священный,
Сквозь мглу пещер гигантских, пенный,
Впадает в сонный океан.
И дальше:
Какое странное виденье —
Дворец любви и наслажденья
Меж вечных льдов и влажных сфер.
И наконец:
Затем, что вскормлен медом он
И млеком рая напоен.
Поистине удивительный отход от реальности. Обычно мы совсем не так выражаем свои желания и наши чувства не погружаются в мир такой фантазии. Но мы ненамного отстаем от поэта. Задача поэта — выразить то, что мы чувствуем, но не смеем высказать. Он облекает наши желания в слова; он берет нас за руку и переносит в мир мечты, чтобы мы жили в нем, пока длится стихотворение, — как Мефистофель показал Фаусту мир любви и страстей.
Страдать и умереть ради любви
Романтик не в силах изменить угнетающую реальность, он может бежать от нее только в мечтах, и потому страдает. Страдание — существенный элемент романтической любви, без страдания любовь не была бы подлинной и не могла бы так называться. Чтобы понять романтическую любовь, мы должны понимать не только то, что влюбленный страдает, но и то, что он делает это охотно. Он готов страдать. Его страдания сладки, они приносят ему наслаждения. Он гордится ими. Он бережет свои страдания. Ките пишет:
И в сердце — боль, и в голове — туман,
Оцепененье чувств или испуг,
Как будто сонный выпил я дурман
И в волнах Леты захлебнулся вдруг[51].
Еще раньше участник гражданской войны XVII века Роберт Геррик[52] гораздо мрачней описал не только страдания романтика, но и его смерть:
Любовь привела меня в тихую рощу
И показала мне дерево.
На нем кто-то повесился от любви,
И дерево протянуло мне «твист».
«Твист», или петля, делался не из обычной веревки, а из шелка и золота, это было изящное, но смертоносное орудие. И в каких же наиболее грандиозных обстоятельствах способен опуститься занавес оперы? Смерть — лучшая кульминация для романтического влюбленного. Он мечтает о том, чтобы умереть от любви, и многие — по крайней мере в романтической литературе — совершают этот драматический шаг, превращая мечту в реальность.
Но это уже крайность. В самые напряженные романтические моменты сегодня мы не думаем о смерти от любви. Всякого, кто так поступит, мы сочтем не романтиком, а больным. Поэты, однако, идут по этому пути до логического конца и извлекают из заключительных сцен душераздирающие эмоции до последней капли.
Подумайте о любви-смерти Изольды, вздымающей в экстазе сопрано над шепотом оркестра[53]. Вспомните, как смотрит Ромео на свою возлюбленную, которую считает мертвой, как подносит к губам флакон с ядом:
Любовь моя, пью за тебя! (Пьет.)
Вот так я умираю с поцелуем[54].
Джульетта, очнувшись от своего наркотического сна, видя Ромео мертвым, упрекает его, что он не оставил ей яда целует его, чтобы взять яд с его губ. В книгах и на сцене мы не считаем такое поведение проявлением болезни. Мы наслаждаемся этой крайностью, этим неограниченным проявлением чувств, великолепной свободой от разума и здравого смысла.
Философия любви
Предпринимались попытки не только поэтически прославить романтическую любовь, но и философски ее обосновать. Шелли хотел заставить нас поверить, что такая любовь — неотъемлемая часть природы. В стихотворении, которое называется «Философия любви», он пишет:
Ручеек сливается с рекой,
А река — с могучим океаном;
Ветер с неба, веющий весной,
Неразлучен с ласковым дурманом.
Одиноким в мире быть грешно, —
И, покорны высшему закону,
Существа сливаются в одно...
Что ж меж ними ставишь ты препону?[55]
Может ли существовать лучший подход к любви, чем признание того, что она соответствует «высшему закону»?
Любовь также ненасытна. Она пожирает влюбленного; он не может ее насытить. Мы не представляем себе трезвого эссеиста из Новой Англии Ральфа Уолдо Эмерсона,[56] как романтического влюбленного, и однако именно он написал:
Все отдай любви,
Повинуйся своему сердцу;
Друзей, родственников, дни,
Поместье, доброе имя,
Планы, кредиты и Музу —
Отдавай все, ни в чем не отказывая.
Такие крайние преувеличения не характерны для нашей повседневной жизни и для обычных чувств. Вырванные из контекста, они даже указывают на признаки душевной болезни.
И все же мы находим их привлекательными. Разве станет жена возражать, если муж придет домой вечером и скажет ей:
Елена! Красота твоя —
Никейский челн дней отдаленных,
Что мчал меж зыбей благовонных
Бродяг, блужданьем утомленных,
В родимые края![57]
Будет ли она возражать? Конечно, нет. Ну и что с того, что эти изысканные строки — преувеличение? Если муж скажет так только раз за всю жизнь, жена может почувствовать легкое подозрение. Но если он часто так к ней обращается, она, даже понимая, что это преувеличение, будет радоваться такой похвале.
Быстрей, быстрей
Наконец, ко всем этим характеристикам романтической любви мы должны добавить еще одну — торопливость. Такая любовь всегда невероятно нетерпелива. Это нетерпение исходит из юношеского импульсивного сознания скоротечности времени. Юные влюбленные часто считают, что единственный способ сберечь свою любовь — вступить в брак. Они во всех отношениях могут быть совершенно не готовы к браку, но чувствуют, что должны в него вступить, потому что больше никогда не найдут подобной любви и если не удержат ее сейчас, то потеряют навеки.
Эта настойчивость, торопливость, срочность выражается в романтической литературе чаще любых других качеств любви. Эндрю Марвелл[58] протестует:
Если бы перед нами был весь мир и вся вечность,
Твоя застенчивость, о леди, не была бы преступлением...
И добавляет.
Но за собой я всегда слышу
Звуки быстрой колесницы времени.
Далее он предупреждает:
Могила — отличное и уединенное место,
Но думаю, там некого обнимать.
Геррик сводит в четверостишие то, что знаем мы все:
Собирай розы, пока можешь:
Старик Время летит за тобой,
И те же цветы, что сегодня улыбаются,
Завтра будут умирать.
И наконец снова обратимся к «Рубайату»:
Поутру просыпается роза моя,
На ветру распускается роза моя.
О, жестокое небо! Едва распустилась —
Как уже осыпается роза моя[59].
Не откладывай, бери любовь сейчас — жизнь проходит, любовь проходит, все минует, у всего есть конец. Это отчаянное осознание времени, бренности всего прекрасного и самой любви по-прежнему ощущается нами, хотя мы уже так не торопимся, как торопились в молодости. Мы сознаем, что у нас впереди гораздо больше времени, чем представлялось в те нетерпеливые годы.
«Сделай сам» как форма искусства
Когда мы описываем романтическую любовь как обладающую преувеличением, нетерпением, своенравным невежеством, отказом от реальности, уступкой желаниям, страданиями и даже смертью, мы описываем тип душевной болезни, если не подлинное безумие. Но это нисколько не унижает романтическую любовь. Романтическая любовь — наиболее распространенная форма искусства, известная человечеству.
Не все умеют рисовать, не каждый сумеет создать скульптуру или написать стихотворение, но все могут любить. Романтическая любовь — это искусство, доступное всем; все способны на такое творческое самовыраже ние. Это своего рода набор «Сделай сам», который даже не нужно искать и покупать. Мы создаем любовь из своих мечтаний, а если нам понадобятся указания, то литература полна ими.
Романтическая любовь отвечает буквально всем критериям формы искусства. Подобно искусству, она заменяет собой реальность. Она заинтересована не в буквальной истине науки, а в символической правде искусства.
Возьмем, например, один из самых романтических произведений — «Грозовой перевал»[60]. Если посмотреть на сюжет буквально, как на отчет о действительно происходивших событиях, то пришлось бы признать, что он больше всего напоминает клиническое описание невроза одержимости. И это даже не очень интересная история болезни. В психологической литературе описаны гораздо более яркие случаи.