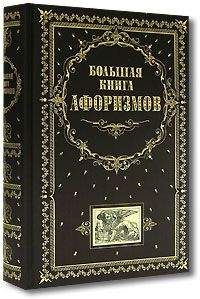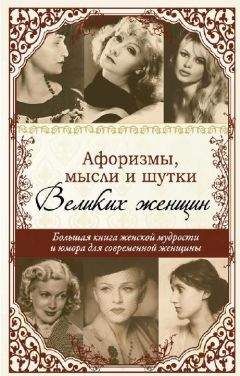Карл Юнг - Структура и динамика психического (сборник)
формулировок. Вернее, теперь она предстает в двойственном облике как сущность, одновременно известная и неизвестная. В результате старая психология была поколеблена в своих основаниях и претерпела революционные преобразования22 в той же мере, что и классическая физика – под влиянием открытия радиоактивности. Первым адептам экспериментальной психологии пришлось столкнуться с такими же трудностями, как и мифическому первооткрывателю числового ряда, который складывал горошины, просто прибавляя одну за другой. Когда он созерцал полученный результат, ему казалось, что это всего лишь сотня одинаковых единиц, но их порядковые номера, которые он считал просто-напросто именами, неожиданно оказались особыми сущностями с нередуцируемыми свойствами. Бывают, например, четные, нечетные и простые числа; положительные, отрицательные, иррациональные, мнимые и т. д.23 То же и с психологией: если душа – это действительно только идея, то идея эта окутана тревожной атмосферой непредсказуемости – как нечто, обладающее свойствами, которых никто не в силах вообразить. Можно и дальше утверждать, что психическое – это сознание и его содержания, но это отнюдь не отдаляет, а фактически подталкивает нас к открытию основы – подлинной матрицы всех сознательных явлений, предсознательного и постсознательного, сверхсознательного и подсознательного – о существовании которой ранее не подозревалось. В момент, когда у нас формируется представление о чем-то и нам удается постичь один из его аспектов, мы неизменно поддаемся иллюзии постижения целого. Однако никому не приходит в голову, что сама по себе формулировка вопроса уже задает определенное представление. Даже идея, которая кажется всеохватывающей, не является таковой, поскольку перед нами по-прежнему вещь в себе с непредсказуемыми качествами. Этот самообман определенно вселяет мир в наши души: неведомое получает имя, далекое становится близким, словно до него лишь рукой подать. Теперь мы распоряжаемся им, оно становится нашей неотчуждаемой собственностью, как убитая дикая тварь, которая отныне уже не сможет от нас убежать. Это магическая процедура, какую первобытный человек совершает над тем или иным природным объектом, а психолог производит над психическим. Ему кажется, что он овладел психическим, но он даже не подозревает, что сам факт овладения объектом концептуально дает бесценную возможность обнаружить все те качества, которые, возможно, никогда не явили бы себя, если бы этот объект не был заключен в понятие (вспомним сами числа!).
357 Все попытки постичь сущность психического, предпринимавшиеся в течение трех последних столетий, были неотъемлемой частью колоссальной экспансии знания, потрясающим образом приблизившей к нам вселенную. Тысячекратное увеличение масштабов, ставшее доступным благодаря электронному микроскопу, достойно соперничает с путешествиями посредством телескопа на расстояния в 500 миллионов световых лет. Психология же по-прежнему далека от того уровня, которого достигли другие естественные науки; кроме того, как мы убедились, ей в гораздо меньшей степени удалось избавиться от пут философии. В то же время, каждая наука является функцией психического, из него проистекают все знания. Психическое представляет собой величайшее из чудес света и является sine qua non[42] мира как объекта. И в высшей степени удивительно, что западный человек, за очень немногими, по сути, считанными исключениями, явно не придает значения этому факту. Под спудом знаний о внешних объектах сам субъект всякого знания постепенно исчез из виду, как будто его вовсе не существует.
358 Душа понималась по умолчанию как нечто, казалось бы, известное во всех деталях. С открытием возможной бессознательной области психики человеку предоставился удобный шанс ринуться в великое странствие духа, и следовало ожидать, что эта возможность привлечет к себе жгучий интерес. Однако ничего подобного не произошло, и, более того, со всех сторон стали раздаваться бурные возражения против такой гипотезы. Никто не пришел к заключению, что, если субъект знания, психическое, существует в скрытой форме, непосредственно не доступной сознанию, значит, все наши знания должны быть неполными, причем нам не дано знать, до какой степени. Это ставило бы под сомнение достоверность осознанного знания иным и куда более беспощадным образом, чем любые процедуры эпистемологической критики. Эпистемология полагала человеческому познанию в целом определенные границы, которые немецкий идеализм посткантианского толка пытался преодолеть; однако естественные науки и здравый смысл без особого труда к ним приспосабливались, если вообще удосуживались их замечать. Философия сражалась против них во имя застарелых претензий человеческого разума на то, что он способен без посторонней помощи вытянуть себя за волосы из трясины и знать достоверно то, что находится за пределами человеческого понимания. Когда Гегель восторжествовал над Кантом, это нанесло весомый удар разуму (то есть здравому смыслу) и всему дальнейшему развитию немецкой и, к сожалению, европейской мысли – удар, тем более губительный, учитывая, что Гегель был, хотя и неявно, психологом, проецирующим великие истины из области субъективного на космос, который он сам же создал. Мы знаем, насколько далеко сегодня простирается влияние Гегеля. Силы, компенсирующие такое пагубное положение дел, персонифицировались отчасти в позднем Шеллинге, отчасти в Шопенгауэре и Карусе, а тот необузданный «дионисийский (вакхический) Бог», присутствие которого уже Гегель почуял в природе, ошеломительным образом предстал наконец перед нами у Ницше.
359 Гипотеза Каруса о бессознательном должна была отвечать тенденциям, преобладавшим тогда в немецкой философии, тем более что последняя явно вполне усвоила все лучшее из кантовского критицизма и восстановила, точнее, возвела в прежний статус почти божественное верховенство человеческого духа – Духа с большой буквы. Дух средневекового человека оставался в радости и горе Духом Бога, которому он служил. Эпистемологический критицизм, с одной стороны, являлся выражением благопристойности и смирения средневекового человека, а с другой – отказа, или отречения от Духа Божьего, и, как следствие, расширения и утверждения человеческого сознания в границах разума. Везде, где Дух Божий вытесняется из наших человеческих помыслов, его место занимает бессознательный субститут. У Шопенгауэра мы обнаруживаем бессознательную Волю в качестве новой дефиниции Бога, у Каруса – собственно бессознательное, а у Гегеля – инфляцию и практическое отождествление философского разума с Духом, что делает возможным интеллектуальное жонглирование непосредственно самим объектом, достигающее поразительной яркости в его философии государства. Гегель предложил решение проблемы, поднятой эпистемологическим критицизмом, дав возможность идеям доказать свою неведомую автономную силу. Это они пробудили ту самую hybris[43] разума, которая привела к появлению ницшевского сверхчеловека и далее – к катастрофе, имя которой – Германия. Не только люди искусства, но и философы иной раз становятся пророками.
360 Я думаю, вполне очевидно, что все философские утверждения, выходящие за границы разума, носят антропоцентричный характер. Философия, подобная гегелевской, является самооткровением психических предпосылок, а в философским смысле – предположением. Психологически это равнозначно вторжению бессознательного. Своеобразный, высокопарный язык Гегеля лишь подтверждает такое мнение: он напоминает выдающий манию величия язык шизофреников, которые прибегают к завораживающе-чудовищным словам, чтобы представить трансцендентное в субъективной форме, придать банальному пленительность новизны, представить общие места как глубины мудрости. Такая терминология – симптом, свидетельствующий о бессилии, скудости и пустоте ума.
361 Перед лицом этого стихийного вторжения бессознательного в сферу разума западного человека Шопенгауэр и Карус не имели достаточно прочной опоры, чтобы компенсаторная сила их идей получила развитие и приложение. Шопенгауэр так и не разрушил – во всяком случае, принципиально – спасительное смирение человека перед Божьей милостью и санитарный кордон между ним и демоном тьмы – великое наследие прошлого, тогда как Карус вообще едва ли затронул эту проблему, поскольку он пытался решить ее в корне, переместившись от крайне самонадеянного философского подхода к психологическому. Следует закрыть глаза на его философские уловки, если мы хотим во всей полноте оценить его, в сущности психологическую гипотезу. По меньшей мере, он сделал шаг к тому выводу, о котором мы говорили ранее, поскольку попытался построить картину мира, включающую темную сторону души. Впрочем, этой конструкции недоставало чего-то беспрецедентно важного, что я хотел бы донести до читателя.