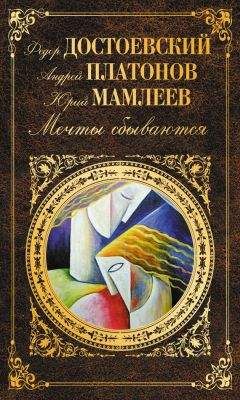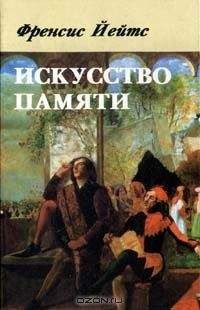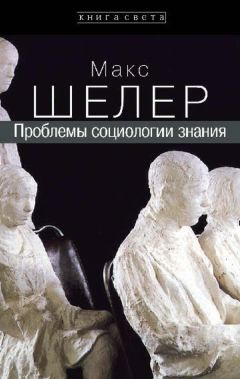Иван Болдырев - Время утопии: Проблематические основания и контексты философии Эрнста Блоха
Кто хотел бы узнать, какое устроение обретает «спасенное человечество», каковы условия, необходимые, чтобы достичь этого устроения, и когда можно на такое достижение рассчитывать, – тот задает вопросы, на которые ответа нет (GS I, 3. S. 1232).
Но такое прочтение не соответствовало бы духу времени и вообще всей стилистике ранних текстов Блоха, стремившихся стать пророческими и потому неотделимых от сосредоточенного, одержимого поиска последних начал через концентрацию, предельное «сжатие» утопического материала (S, 90). Этот «дух времени» жил и в эссеистике раннего Лукача, и в первых текстах Беньямина. Герои Блоха – будь то люди, идеи или обстоятельства (а все они в «Следах» оказываются героями) – разрушают границы очевидного мироустройства, отказываются соглашаться с данностью. С одной стороны, Блох портретирует самого себя, а с другой – придает форму аффективным и метафизическим установкам своей утопической философии: неожиданности мгновения, удивлению, надежде. Литература помогает разрушать привычные формы существования – Блох как бы приглашает читателя приобщиться к этому художественному действу, призывая на помощь сбивчивый ритм текста и нечеткую образность.
Эти образы не обязательно зрительны. Более того, для раннего Блоха очевидна связь мистического откровения со звуком и слухом (особенно в философии музыки). Звук оказывается более адекватным, чем слово, и даже поздний Блох посвящает специальную статью поэтике разговорной речи и анаколуфу – намеренному искажению синтаксиса, воссоздающему непосредственность живой, воспринимаемой на слух речи[548]. Звук – это первая попытка вырваться из природной непосредственности и выразить себя. Ритм же у Блоха мыслится как средство объективации внутренней интенсивности, ее помещения в пространственный контекст. Вместе они и создают музыку, а музыка задает ритм откровения. Она есть искусство, основанное на особой продуктивной неопределенности, обостренном внутреннем ощущении времени, и при этом неотделима ни от внутреннего переживания, без которого невозможен опыт мистика, ни от апокалиптических настроений, создававших стиль эпохи экспрессионизма. Не случайно Розенцвейг пишет о музыке в связи с концепцией откровения – как обретения немой самостью языка и превращения ее в рекущую душу[549].
Мы упомянули о связи мистического с невыразимым. По Блоху, соотнося жизнь с утопией, мы соотносим ее с тем, чего еще нет, что еще не выражено, а значит, и не может быть выразимо здесь и сейчас. Совершенно очевидно, что и Блох, и Беньямин постоянно обсуждают вопросы, балансирующие на грани сказываемости, апеллируют к опыту, описать который в точности нельзя, противятся логической стройности, не могут отказаться от парадоксов, от несоизмеримости обычных форм познания с новыми мессианскими смыслами. Именно такой они видели философию, адекватную их исторической ситуации, и констатировали, что иначе мыслить «о последних предметах» невозможно, прежние формы знания уже не справляются с этой задачей. Они оба культивируют максимальную чувствительность по отношению к этим таинственным содержаниям, к легким касаниям смысла. (Это одновременно и рецептивность, и способность активно творить новое.) Оба безусловно – и прежде всего в своей литературной деятельности – вдохновлялись мистикой вещей и повседневных событий[550]. Предмет мистического знания – то, что слишком близко, едва заметно в тени нас самих (PH, 343) и потому невидимо. Вот как пишет об этом Беньямин:
Любое серьезное исследование оккультных, сюрреалистических, фантасмагорических способностей и феноменов имеет предпосылкой такое диалектическое переплетение, которое никогда никакой романтик не освоит. Дело в том, что мы не подвинемся ни на шаг, если патетически или фанатически будем подчеркивать загадочную сторону в загадочном; более того, мы проникнем в эту тайну лишь в той степени, в какой мы обретаем ее в повседневном, в силу некой диалектической оптики, которая опознает повседневное как непроницаемое, а непроницаемое как повседневное[551].
Ключевой образ и для Блоха, и для Беньямина дает глубокомысленное речение «раввина», который в «Следах» говорит:
Чтобы мир воцарился на земле, не следует уничтожать всякую вещь и потом начинать все заново; нет, нужно лишь немного подвинуть эту чашку, или вон тот куст, или камень, и так всякую вещь. Но оттого что это немногое столь трудно сделать, а меру его – столь трудно отыскать, люди осуществить такое в целом мире не способны, и к ним для этого придет мессия (S, 201f.)[552].
Легенда о минимальном, неуловимом смещении, после которого наш мир станет мессианским царством, перешла затем и к Адорно, и к Агамбену[553]. Блох же фиксирует здесь мистический принцип: понять, что все изменилось, будет нелегко, но раскрыть тайные контуры будущего мира можно будет сразу, в единое – счастливое – мгновение. У каждой вещи есть свое имя, которое она еще не обрела, и субъект может даровать ей это имя, вдруг поняв, почувствовав его. В поэтике Блоха (особенно в «Следах») это мгновение зачастую фиксируется как некое несоответствие, недочет в реальности, источник беспокойства, а кроме того – ожидания и надежды, то есть начала пути. Адорно, характеризуя «мистический» аспект анализируемого Блохом отсутствия идентичности человека с самим собой, пишет:
Эмпирическое, психологическое Я, характер – это не та самость, которая приписывается каждому человеку, а тайное имя… Укрытость, потаенность – это не онтологически приукрашенная расположенность (Befindlichkeit)[554], в которой можно было бы жить, а нотабене для чего-то, указывающее, чем ему следовало бы быть, но что оно еще не есть[555].
Однако, повторюсь, заранее заданного плана у этого пути нет – Блох не верит в его существование, идя вслед за речением раввина лишь постольку, поскольку никакой закономерности в этом неуловимом смещении не найти. Но чем непонятнее и туманнее следы, тем больше мы уверены, что именно здесь и надо искать[556].
Потаенные контуры будущего открываются нам не только в удивлении, но и через образы высшей жизни, которые обладают «морально-мистической» очевидностью (GU2, 256–262). Именно этика не дает мистику замкнуться в скорлупе собственного Я, не позволяет ему зацикливаться на собственных откровениях и созерцаниях. «Морально-мистическая» открытость по отношению к другому, провидческая способность увидеть и понять другого стали основополагающим опытом для философии Бубера, Розенцвейга, Левинаса, об этом много писал и ранний Бахтин.
В 1-м издании «Духа утопии» Блох завершает эссе о Канте и Гегеле такими словами:
Цель будет достигнута тогда, когда удастся то, что прежде никогда не удавалось собрать вместе: говорение языками[557] и пророчество, душу и космическую тотальность свести воедино; так… чтобы… силы освобождения, исходящие от общества, и силы воспитания и теургии, исходящие от церкви, были тщательно и объективно продуманы и выстроены – и чтобы лишь затем из этих великих обсерваторий упорядочить внутреннее, душу, как подлинный космос, встречу с самим собой, как содержание всех ценностей культуры, врагов и гениев универсальной, абсолютной встречи с самим собой в апокалипсисе, который только и может всецело представить механизм пробуждения и мистического исполнения себя в тотальности (GU1, 294).
Иными словами, мистика Блоха не только этическая, но и политическая. Что это значит? Прежде всего то, что утраченный Абсолют возвращается в «Духе утопии» в новом облике – в облике еще не обретенного утопического царства и сообщества. Это мистика, доставшаяся на долю тех, кто живет в богооставленном мире, у кого больше нет ни мифической энергии, ни полноты и завершенности бытия. На место Бога приходит царство Божье, которое – лишь другое имя для мистической встречи с самим собой – той самой теургической «магии субъекта», благодаря которой движение вовнутрь, самоуглубление, отождествляется с движением вовне, реализацией мессианского царства. Душа, еще не встретившаяся сама с собой, устремленность к утопическому братству душ, которые вступают друг с другом в непосредственное общение, – вот место свершения мессианской идеи, где вспыхивает та искра, которую носит каждый из нас. Именно эта внутренняя интенсивность утопического субъекта и делает политику мистической – постольку, поскольку мистик у Блоха – это всегда бунтарь и еретик.
Политический момент в прозе Блоха хорошо описан у Адорно, который подчеркивает связь «оккультных», «суеверных» историй с остранением. Адресат этих историй, согласно Адорно, – это тот, кто в них не верит и потому, слушая их, может наслаждаться «свободой от мифа» и вместе с тем прозревать – с помощью рассказчика, – сколь мал и тесен несвободный мир[558].
Еще один важный мотив в мистике раннего Блоха – это учение о переселении душ. В «Духе утопии» он обсуждает тему смерти и бессмертия и настаивает, во-первых, на неустранимости, феноменологической очевидности внутренней, душевной жизни, сводить которую к физическим явлениям нельзя, а во-вторых, на абсурдности абсолютной смерти, полного исчезновения этого экзистенциального «ядра», которое, появившись, уже не может исчезнуть. Метемпсихоз в тот момент казался Блоху именно той доктриной, в которой можно было объединить две метафизические «загадки» – воспоминание и надежду – и понять, что движение и жизнь есть не только в посюстороннем мире. Он находит (в согласии с современной ему эзотерической литературой) идею метемпсихоза в большинстве мировых религиозных традиций – при этом явно находясь под впечатлением Лессингова трактата о воспитании человеческого рода[559].