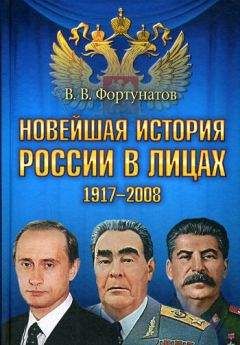Гуттаперчевый человек. Краткая история российских стрессов - Миркин Яков Моисеевич
Этого мало? У Чехова три сестры? Их было – четыре. Нина (1913), Лиза (1915), Вера (1917) и Софья (1921). Тщательно выбранные, счастливые имена. Нина – царица, в честь бабушки, Елизавета – клятва божья, Вера – именно вера, Софья – мудрость. И еще трое приемных детей. Жизнь кипела. 1917–1921. Что это за даты? Смеетесь? Это годы коммуны для беспризорных там же, в Дубровке. Кто ее сделал? Иван Аркадьевич Беневский – отец, Анна Беневская (Федоровская) – мать. Спасение детей – это их способ жизни в войнах, в распрях, в местной темноте. Вот голос Беневского, его статья: «Если человек поймет и ощутит единство бытия – он увидит, что весь мир есть настоящее, прошедшее и будущее, вся природа, все люди соединены одной, но единой связью и не только каждый тайный поступок, каждое слово, сказанное наедине, но и каждая самая сокровенная мысль – имеют значение в жизни других людей»[519].
Пожалуйста, услышим его! Жизнь – во Христе, благо – для всех, труд все вместе – на земле, любовь – к братьям по человечеству. Человек должен стремиться – это собственные слова Ивана Аркадьевича, из той же статьи – «к чистоте жизни, чистоте слова, чистоте мысли».
Что же было ответом ему? Всеобщая благодать? Нет, год 1922-й, товарный вагон, которым он торопился домой, там подхваченный сыпной тиф, смерть его, смерть жены. Сила судьбы? Зачем ей нужно было казнить их, когда Нине – 9 лет, Елизавете – 7, Вере – 5 и Софье – 1. Зачем?
Новая реальность – уже не коммуна, хутор детей Беневских. У Анны была Евдокия, сестра, одна, без мужа. Она и подняла их. Ей были отданы – Нина, Лиза (она же Ляля), Вера и младшая, Софья. Что о ней известно? О ее силах судьбы? Что от нее осталось?
Нет ни строчки от нее. Есть глухие отзвуки каких-то событий. Остался взгляд – есть фотография, темная, неподвижная. С сестрой – одно лицо. И еще есть пунктир: выходила четырех птенцов – от своей сестры Анны – и еще трех приемных. В 27 лет – не было своих, но были чужие. Она их подняла. В это время каждый четвертый-пятый ребенок умирал до года. Мы же знаем, что значит выкормить семерых детей! Труд, труд, труд в неизвестности. Дневной, ночной, почти подневольный. Добрейшая – так ее поминают[520]. Добрейшая тетя Дуня! Евдокия – это благоволение, любовь. Вот и всё.
Почему мы так нелюбопытны? Почему не вытрясем из старших всё, вплоть до мелочей? Почему мы позволяем им уйти – без подробностей, без событий, без их хоть как-нибудь произнесенных слов? Одни имена, одни даты, одни неподвижные лица на фотографиях – от всей жизни? Тронь их – они не изменятся в лице!
Только воспоминания – медленные, в записях – позволяют мысленно увидеть это погибшее поместье, сгоревший барский дом и флигель от него, такой большой, что на чердаке можно поместиться в рост. Его давно уже нет, он разобран по косточкам, и от людей остался только холм, но они там – были.
Какие слова! Каретный сарай, диванная, граммофонная, рига, погребица, голландка – это печь, молочная. Молочная комната! Где-то она существует? Как могла она пропасть? Там бродит конь Громобой, там чердак пропах антоновкой, там на роскошной кровати красного дерева спят мешки с картошкой. Там собак и кошек кормят на серебряных блюдах. «Помню Соню в великолепном ожерелье из крупных граненых гранатов. Мы пошли купаться, нитка разорвалась и все бусины ушли на дно. Помню, как они падают в воду, еще что-то можно было бы и спасти, но Соня благодушно и растерянно улыбается и не предпринимает никаких шагов к их спасению. И зачем в деревне девочке носить, да еще идти купаться в гранатах? Одному богу известно»[521]. Книги, повсюду книги, толстые, зачитанные тома. Это благодушный, детский хаос, где жизнь старинная соединена с жизнью новой. Куда делись старинные китайские шахматы, там кочевавшие? Куда? Бог знает! Старый дом, старый флигель, рига, яблоня до неба, привитая на липу – они где-то есть? И еще там дети, много детей, растущих, медленно – для них, мгновенно – для нас, потому что они – уже в давно исчезнувших временах. Может быть, они тоже где-то есть? Но пока они – там. Силы судьбы еще не гонят их, они – еще не выросли, и они – еще живы.
Лиза, Ляля – одна из сестер. Одна. Как подойти к ней поближе? Скажите, как? Время уже опустило все мыслимые завесы, и от нее тоже нет ни строчки. Она есть только в ощущениях тех, кто был с ней. У нее был низкий, грудной голос. Светлая дева. Румяная светлая дева. И каждый поминает шрам под правым глазом, след ожога от упавшей горящей лампы, лет в пять. «У Лялечки под правым глазиком был шрамик». Через шесть десятков лет – Лялечка, шрамик.
Еще раз – закроем глаза. Есть только снимки – черно-белые. Румяная, высокая – так говорят – вся в движении. Гитара – кем она себя воображала? В своей диверсионной части, с номером темноватым, 9903, она назвалась Чарской. Лиза Чарская. Ляля – тоже Чарская. Это же – Чарская! Записки институтки. Так кем она себя представляла? Голос – низкий, грудной, песенный. И еще – пианино. Как она могла овладеть пианино?
Хотя нет, все обычно, как положено в 1930-х. Бытие в Москве – приехала из глубинки, доучиться. Техникум, энергетический, МЭИ, студентка, коммунистический союз молодежи: все – по времени, все – правильно, все – впереди? Будущее – за нами? Это она – на парашюте, с вышки, в парке! «Я помню очень крепкое, сильное тело физкультурницы». «Ляля – крепкая, сильная, круглолицая, очень радостная. Я даже помню ощущение ее рук, когда я была маленькая: вот что-то она со мной тогда творила, куда-то меня подкидывала, ловила»[522].
Как ощутить ее? Ведь ни одной строчки от нее! Всё – только о ней. Помним ее, помним. Память – яркая, почти детская. Все помнят шрам. Эта лампа пометила ее, чтобы дать опознать. А еще что? Страстный читатель, образованная девушка. Как по-старинному звучит: образованная девушка! Тонкая, всегда смеялась, с огромным чувством юмора. Душевная. Мы, кажется, привыкли к этому слову. Еще раз: душевная! Чуть теплее, как будто в ней появляется дыхание. Правильная – о ней говорили: правильная. В том, как жить? Обгоревшая, измученная – так ее увидели, когда она вернулась из-за линии фронта во второй раз.
Пусть время замедлится. Еще раз: обгоревшая, измученная. Когда? 41-й, декабрь.
– Я, наверное, теперь уже не вернусь, – сказала она. И не вернулась.
Она высокая. Что это значит – то же, что сейчас? Замужество – за человеком, о котором никто не хотел ни помнить, ни говорить. Неродившийся ребенок. Очень любила петь. Лиза-Лиза-Лизавета. Она смотрела всегда прямо в камеру, с полуулыбкой, в черно-белом снимке проступал ее взгляд. Взгляд внимательный, взгляд прямой, не исподлобья.
Что еще? Идут слова. Умница. Надежная. С ней приятно и легко. В ней чувствовалось знание. Она была интересна. В ней была уверенность. В ней было спокойствие. Да человек ли она?
Да, это она. Силы судьбы уже обрисованы. Не бесплотный рисунок. В глубине времени, через столько десятилетий чувствуются движения человека. Как будто на глубине, в темной воде бьется кто-то.
Осенью 41-го она решила быть на войне. Ей 25 лет, никто ее туда не гонит. Как случилось это решение? Что за машина толкала ее в спину? Чувство долга? Неустроенность и отчаяние? Так победим? Нельзя иначе? Совесть? Все вместе? Неизвестно. Осенью 41-го Ляля не уехала из Москвы, хотя могла, должна, она преподаватель МЭИ, таких вывозят.
Есть силы непреодолимые. Они толкают нас в спину. Она стала рядовой, в/ч 9903. По доброй воле – их назвали добровольцами – прошла отбор (так это называлось), всё – по линии коммунистического союза молодежи. Самые сильные, самые молодые. Мимо военкоматов. В/ч 9903 – это диверсионные группы, чтобы убивать за линией фронта. Из в/ч 9903 – Зоя Космодемьянская.
15 октября 1941 г., в Москве паника. У Лизы – сбор в кинотеатре «Колизей» на Чистых прудах, только не труппы, а тех, кому предназначение – в/ч 9903. «Колизей» это «Современник», московский театр, дом с колоннами! Каждый из нас был там! Сбор в кино, сбор в «Колизее», Рим, Колизей, бои, участь смертная. Это что, притча?