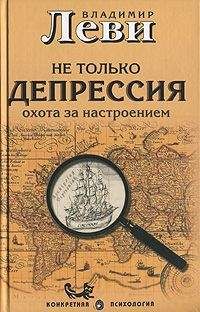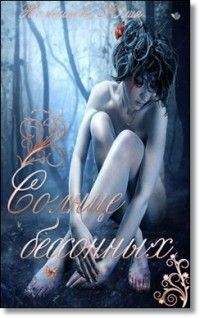Юлия Кристева - Черное солнце. Депрессия и меланхолия
Но именно различие и тождество — а не автономия и равенство — связывают эту восточную Троицу, ставшую, следовательно, мистическим и экстатическим источником. Православие будет любовно взращивать выходящий за пределы оппозиций смысл полноты, в которой каждое лицо Троицы связывается и отождествляется со всеми другими, — эротическое слияние. В этой «боромеевой» логике православной Троицы психическое пространство верующего открывается наиболее могущественным силам исступления, приводящим к восхищению или смерти, которые различаются только для того, чтобы смешаться в единстве божественной любви[209]. Именно на этом психологическом фоне следует понимать отвагу византийского воображения, проявившуюся при иконописном изображении смерти и Страстей Христовых, так же как и стремление православного дискурса исследовать страдание и милосердие. Единство может теряться (так, теряется единство Христа на Голгофе, единство верующего в унижении или смерти), но в движении триединого узла оно может обрести временную устойчивость благодаря доброжелательству и милосердию, прежде чем снова вступить в вечный цикл исчезновения и появления.
«Я» есть Сын и ДухНапомним в связи с этим о нескольких теологических, психологических и живописных событиях, которые предвещают как раскол, так и появившуюся позднее русскую православную духовность, ставшую основанием для дискурса Достоевского. По Симеону Новому Богослову, свет неотделим от «болезненной нежности» (katanyxis), которая открывает себя Богу через смирение и поток слез, поскольку знает, что прощение уже получено. С другой стороны, пневматологическая концепция евхаристии, представленная, среди прочих, Максимом Исповедником (XII век), приводит к той мысли, что Иисус был в одно и то же время и обожен и распят, то есть смерть на кресте непосредственно сливается с жизнью, сама становясь живой. На этом основании художники получают право изображать смерть Христа на Кресте: поскольку смерть сама является живой, мертвое тело — это неразложимое тело, которое может сохраняться церковью в качестве образа и реальности.
Начиная с XI века схемы церковной архитектуры и иконографии обогащаются изображением Христа в окружении апостолов, которым он предлагает кубок и хлеб, — это, по выражению Иоанна Златоуста, Христос «дарующий и принимающий». Как подчеркивает Оливье Клеман, само искусство мозаики предполагает наличие света, дара благодати и щедрости, и в то же время иконописное изображение цикла Марии и Страстей Христовых предлагает верующим идентифицироваться с героями Писания. Этот субъективизм, просветленный лучом благодати, одно из важнейших своих выражений находит в изображении Страстей Христовых — Христос страдает и умирает наравне с человеком. Однако художник может показать, а зритель может увидеть это, ведь его смирение и страдание омыты в Духе нежностью к Сыну. Словно бы Воскресение делало смерть видимой и в то же время еще более патетичной. Сцены Страстей были добавлены к традиционному литургическому циклу в 1164 году в Нерези, в македонской церкви, основанной династией Комниных.
Этот прогресс византийской иконографии по сравнению с классической или иудейской традицией позже, однако, замедлился. Ренессанс оказался латинским, и вполне вероятно, что упадок православного живописного искусства и его окаменение были обусловлены не только политическими и социальными причинами или же иноземными вторжениями. Можно с уверенностью сказать, что восточная концепция Троицы предоставляла индивидууму меньшую автономию или даже напрямую подчиняла его власти и уж тем более не подвигала его к превращению в «артистическую индивидуальность». Однако в менее зрелищных, в большей степени скрытых и, следовательно, менее контролируемых извивах словесного искусства такой подъем имел место, несмотря на свойственное ему запоздание, связанное, в первую очередь, с оформлением алхимии страдания, особенно в русской литературе.
Развившаяся достаточно поздно после византийского и южнославянского подъема (болгарского, сербского), русская церковь делает упор на свои пневматологические и мистические направления. Дохристианская традиция — языческая и дионисийская — оставляет на византийском православии, пришедшем в Россию, свой отпечаток ранее невиданного пароксизма: примером могут быть «хлысты», мистическая секта манихейского направления, которая ставит во главу угла эксцессы страдания и эротики, цель которых — достижение полного слияния сектанта с Христом; здесь же можно вспомнить о теофании земли (которая приведет к идее Москвы как «третьего Рима» — после Константинополя… а также, как утверждают некоторые комментаторы, к Третьему Интернационалу); апологию любви-спасения и особенно гипостазирование нежности (умиления) на перекрестье страдания и радости во Христе; движение тех, «кто претерпели Страсти» (страстотерпцы), то есть тех, кого реально унижали и над кем издевались и кто ответил на зло лишь прощением — все это наиболее пароксизмальные и наиболее конкретные выражения русской православной логики.
Без нее понять Достоевского нельзя. Его диалогизм и полифония[210] проистекают, несомненно, из многих источников. И неправильно было бы пренебрегать православной верой, чья концепция Троицы (различие и единство трех Лиц в обобщенной пневматологии, приглашающей любую субъективность к максимальному развертыванию собственных противоречий) вдохновляет как «диалогизм» писателя, так и его апологию страдания вместе с прощением. С этой точки зрения, образ тиранического отца, присутствующий в универсуме Достоевского — именно в нем Фрейд усмотрел источник эпилепсии, а также игрового расточительства (страсти к игре)[211], — следует, если требуется понять не только Достоевского-невропата, но и Достоевского-художника, уравновесить образом благожелательного отца, внутренне присущим византийской Троице с ее нежностью и прощением.
Высказанное прощениеПозиция писателя — это позиция речи: символическая конструкция поглощает и заменяет прощение, как и эмоциональное движение, милость, антропоморфное сострадание. Тезис, гласящий, что произведение искусства является прощением, уже предполагает выход из психологического прощения (которое, однако, учитывается) к уникальному акту, акту номинации и сочинения.
Поэтому понять, как искусство может быть прощением, можно, лишь открывая все те регистры, в которых прощение действует и завершается. Начать следует с регистра психологической, субъективной идентификации со страданием и нежностью других, «персонажей» и самого себя, нежностью, опирающейся у Достоевского на православную веру. Затем следует непременно перейти к логической формулировке эффективности прощения как трансперсонального творения, как его понимает св. Фома (в этом случае — изнутри Filioque). Наконец, можно будет отметить опрокидывание этого прощения за пределы полифонии произведения, то есть в мораль эстетического совершенства, в наслаждение страстью как красотой. Это третье время прощения-совершенства, потенциально способное стать имморалистским, возвращается к исходному пункту подобного кругообразного движения — к страданию и нежности другого к чужаку.
Акт дарования поглощает аффектСв. Фома связывает «милосердие Бога» с его справедливостью.[212] Подчеркнув, что «справедливость Бога есть то, что относится к Его собственным обычаям, по которым он воздает Себе то, что Ему должно», св. Фома берется показать истину этой справедливости, учитывая, что истина «соответствует пониманию мудрости, которая есть ее закон». Что же касается милосердия, он не забывает упомянуть вполне антропологическое и потому психологическое представление Иоанна Дамаскина, «который милосердие называет видом печали». Св. Фома не соглашается с таким мнением, предполагая, что милосердие могло бы быть не «неким чувством, которое охватывает Бога, а <…> тем следствием, которым он управляет». «Когда же речь идет о Боге, печаль из-за нищеты другого не могла бы возникнуть; но устранить эту нищету — главное его дело, если под нищетою понимать нехватку, недостаток какой-либо природы»[213]. Восполняя нехватку ради достижения совершенства, милосердие оказывается дарованием. «Дарите друг другу, как Христос дарил вам» (также переводится как: «прощайте друг друга»). Прощение восполняет нехватку как дополнительный и безвозмездный дар. Я отдаюсь тебе, ты принимаешь меня, я в тебе. Прощение — и не справедливость, и не несправедливость-оказывается в таком случае «полнотой справедливости» по ту сторону суда. Потому-то и говорит св. Иаков: «Милосердие осиливает суд».[214]