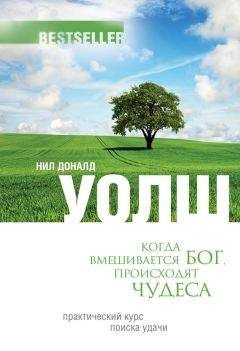Борис Парамонов - МЖ. Мужчины и женщины
Перевести все, что от искусства, на выдумку и на тренировку, видеть новое даже в обыкновенном и привычном.
А то у нас в новом норовят увидеть старое. Трудно найти и увидеть в самом обыкновенном необыкновенное.
А в этом вся сила.
Чистой воды остранение. В «ЛЕФе» и «Новом ЛЕФе», журналах Маяковского, пойнт, однако, был в другом: не столько новое искусство создавать, сколько новую жизнь. Выдвигался лозунг искусства-жизнетворчества, жизнестроения. Шкловский, считалось, стоял на правом фланге ЛЕФа, поскольку он не порвал с эстетикой, а только искал обновить ее. На левом фланге ЛЕФа искусство понималось как поиск методов оформления новой жизни, неких моделей преобразования быта. В сущности это была теургическая утопия, свойственная и старому символизму, но здесь данная в новом, авангардном варианте. Считалось, что политическая и социальная революция большевиков принципиальное продление и окончательное решение найдет в работе Левого Фронта Искусств, ЛЕФа. На этой позиции, вербально, стоял и сам Маяковский, но теоретически ее разрабатывали Борис Арватов и Осип Брик. О последнем хочется сказать особо. В книге Юрия Карабчиевского о Маяковском – сочинении, бесспорно, блистательном – Брик дан очень неверно, я бы сказал, несправедливо, представлен вообще каким-то паразитом, чуть ли не жившим вместе со своей женой Лилей на деньги Маяковского. Эта трактовка идет, конечно, от воспоминаний жены видного лефовца, художника Антона Лавинского, Елизаветы Лавинской, тоже художницы, невзлюбившей Бриков и наговорившей о них якобы ту самую правду, которая хуже всякой лжи. Правда была, однако, сложнее. Лавинская приводит слова Лили Брик, говорившей, что Осип – барин, ему скучно писать, он рассевает свои мысли для других и что, в сущности, ему нужна стенографистка, которая за ним бы записывала. Похоже, что это было именно так. Мне думается, что такой бриковской стенографисткой был в ЛЕФе Виктор Перцов, писавший очень репрезентативно. Кстати сказать, Брик и сам писал в каждом номере, и неплохо писал. Он публиковал из номера в номер очень значительное теоретическое сочинение «Ритм и синтаксис», но не докончил его, о чем можно только сожалеть. Есть у него в «Новом ЛЕФе» очень интересная статья о джазе. Или, скажем, статья «Против романтики» – о том, что советскую молодежь неправильно воспитывают на революционной традиции, которая в случае старых большевиков есть подполье; а какое в советской стране возможно подполье, кроме антисоветского? Нужно объяснить молодежи, что революция ныне продолжается в иных формах, что ее можно делать и за письменным столом. Так понималась революционная работа ЛЕФом: конструкция новых жизненных форм на основе авангардистского искусства, которое в этой работе перестает быть искусством, а делается «жизнестроением».
Вот как писал об этом помянутый Виктор Перцов в программной статье первого номера «Нового ЛЕФа» (1927) «График современного ЛЕФа»:
Новый фронт – оборона от эстетизма и внедрение в реальную жизнь реальными средствами. ЛЕФ сближает художественную и инженерную линии современной культуры. Это дело неслыханной трудности. Довести эти исторически разобщенные формы деятельности до пересечения, до полного слияния средств и методов – таково направление движения.
Это было серьезно. Нужно отказаться от советской трактовки ЛЕФа как некоего левого загиба, мешавшего гениальному поэту Маяковскому, чуть ли не как варианта РАППа. В ЛЕФе была масса талантливых людей, – даже Перцов, в дальнейшем заслуживший худую славу, звучал там совсем неплохо. ЛЕФ был очень стильным явлением, и в этом смысле высококультурным. Он являл некую эстетическую истину большевизма. Вернее так сказать: в лефовских теориях обнажалась общая основа как авангардистской эстетики, так и самого большевизма – утопическая их основа. Поэтому и старались лефы уничтожить искусство как некое автономное эстетическое начало. Вот почему считалось в ЛЕФе, что поэма Маяковского «Про это» – ошибка. Он и сам готов был так считать. Отсюда – уход Маяковского в газету и в рекламу. Это ни в коем случае не было халтурой. Маяковский создал жанр боевой газетной стихопублицистики, и о ней нельзя судить по старым эстетическим критериям, как это делает хотя бы и Пастернак во второй автобиографии, где он говорит, что поздний Маяковский – это не существующий Маяковский. Просто (а вернее сказать, совсем не просто) новый жанр, созданный Маяковским, выродился, а потом и умер вместе с умиранием коммунистического мифа, он кончился вместе с утопией. Это был сверхэстетический сюжет, в случае Маяковского обернувшийся личной трагедией. Газетные стихи Маяковского существуют исключительно в контексте газеты как нового квазиэстетического жанра, их, строго говоря, нельзя включать в книги. Книга преодолевалась эстетически; вот так же Родченко преодолевал живопись в фотомонтажах и рекламных плакатах на тексты того же Маяковского. И нужно было побывать на выставке в нью-йоркском музее, чтобы понять, какое значительное это было явление и какое – что бы ни думали об этом сами лефы – красивое.
Рекламный плакат, выпущенный Музеем современного искусства к выставке Родченко, воспроизводит один из его фотомонтажей – портрет Брика. Казалось бы, портрет как портрет, фотография как фотография. Но нет: в правой линзе очков Брика отражается слово ЛЕФ, и кроме этого слова на линзе, за линзой ничего и нет: глаза нет. Левый глаз, однако, существует и глядит на нас – печальный еврейский глаз. Конечно, это не портрет, это манифест, и недаром нью-йоркский музей выбрал для репрезентации Родченко именно эту работу.
Что здесь репрезентируется? Одно из важнейших положений лефовской теории – о необходимости покончить со старой эстетикой, с эстетикой вообще, с традиционным искусством, бывшим, например, в прозе опытом описания человеческой психологии. Психологии не надо, не надо углубляться в душевные глубины, никому ныне не интересные, надо ориентироваться на факт во всей его внешней, бьющей в глаза голизне. У Маяковского было словечко «психоложество», по аналогии со скотоложеством, для обозначения этого эстетического старья. Родченковский портрет Брика убивает эту психологию, бывшую отнюдь не лишней в старой портретной живописи. Убирая один глаз, подменяя его лозунгом, вывеской авангардной школы, Родченко, так сказать, элиминирует Бриково еврейство, глядящее из другого глаза: еврейство как символическое обозначение всяческой древности, ветхости, вечности; второй глаз оставлен для того, чтобы все это ощущалось, этот контраст создает сюжет. «Старое и новое», ЛЕФ как проект, Брик как проект. В жертву проекту приносилось все историческое, почвенное, вековое, считавшееся по определению реакционным, отжившим, мешающим новому. Это и было революцией, и революция была радикальной – по крайней мере в воображении лефов. И то, что эта элиминация, это убийство всего бывшего было одновременно самоубийством, – этого еще не понимали. Это начали понимать, когда Маяковский самоубился: гениальный жест, жест поэта, самой поэзии, таким образом отвоевавшей свои права (хрестоматийное Цветаевой: жил как человек, умер как поэт).
В этом выбрасывании бытия на поверхность можно и нужно усмотреть метафорику смерти, как она сказалась, например, в принципах конструктивистской архитектуры, выносящей наружу, обнажающей внутреннюю, несущую конструкцию сооружения и отбрасывающей все покровы, любой декор, понимаемые отныне как архитектурное излишество. В теле обнажался скелет – и подносился как истина тела. Но скелет – это образ смерти. Убрать из жизни лишнее – значит убрать самую жизнь. При всей божественности бытийного дизайна, жизнь жива yеконструктивными излишками, не костями, а жиром, так сказать.
Тут вспоминается одна эскапада Ивана Аксенова в книге его «Пикассо и окрестности». Что такое, в сущности, красота? – спрашивал Аксенов, и отвечал: да вот эта формула, создающая так называемую вечную женственность. Приводилась формула – как я догадываюсь, структурная формула жира. Ирония этого выпада в том состояла, что сама формула, в графическом своем начертании, – красива. Вопрос: что любить, в чем видеть красоту – в женщине или в формуле? Лефы вели к тому, что – в формуле, такова была логика, «график» их движения. Но Маяковский-то любил при этом Лилю Брик, да и других женщин, и любил в них лишнее – иррациональность, каприз, непредсказуемое: «жир». Он самоубился потому, что невозможно было осуществить проект в самой плоти бытия, интимнейшая глубина этой плоти отвергала любые проекты, бытие в женственной своей глубине оказалось нереформируемым, косным. В этом смысле можно даже сказать, что Маяковский покончил с собой из-за женщины, но не Лили, Татьяны или Вероники, а из-за женщины как таковой, как символа и плотяной реальности этого косного бытия. Революция, утопия совершенства споткнулась на этом.