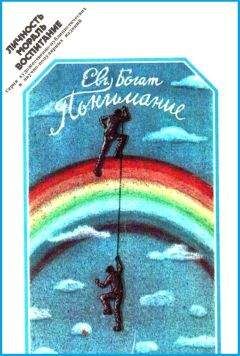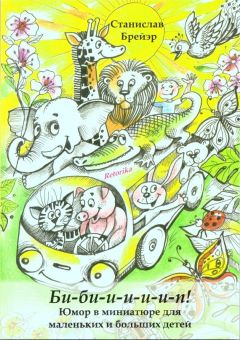Евгений Богат - Узнавание
Однажды на литературном вечере в каком-то окраинном реальном училище она увидела, услышала Блока. Человек с неподвижным, безразличным, красивым лицом, будто бы высеченным из камня, медленно, устало читал стихи. В них были рыжий туман, рыжий снег, городское удушье — была бессмысленность мира и отчаянный вызов этой бессмысленности. Эти стихи пели в ней самой. «Убей меня, как я убил когда-то близких мне! Я всех забыл, кого любил, я сердце вьюгой закрутил…» И она чувствовала восторг, тоже, может быть, самый острый за всю жизнь, — она в небывалом мире. Этот человек, только он поможет ей победить тоску.
Первый раз она не застала Блока дома. Пошла во второй — тоже не застала. В третий решила отчаянно: дождусь!
Ее ввели в маленький кабинет с огромным портретом Менделеева, с письменным столом, на котором почти ничего не стояло, — образцовый порядок в комнате невольно наводил на мысль, что в ней живет не поэт, а ученый.
Она ждала долго, и вот шаги, разговор в передней, входит Блок в черной широкой блузе с отложным воротником, очень тихий, очень застенчивый. Он молчит, ждет; и она, собравшись с духом, говорит ему обо всем сразу — о рыжем тумане и снеге, о тоске, о бессмысленности мира.
Блок слушает внимательно, даже почтительно, будто бы перед ним не пятнадцатилетняя девочка, а такой же взрослый, мучающийся большими вопросами человек.
Он точно не замечает ее возраста, и это запоминается на всю жизнь.
Они говорили долго, стемнело за окнами, и это первый петербургский вечер, когда ей было хорошо. Она не чувствовала больше тоски, потому что Блока ей стало жаль сильнее, чем себя. И она начала осторожно, бережно его утешать…
Через неделю она получила письмо в необычном, ярко-синем конверте. Это были стихи: «Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая…»
Петербургскую девочку ожидала большая, сложная жизнь. Она вышла замуж, стала на короткое время известна как молодая поэтесса Кузьмина-Караваева, ушла от мужа, убежала на юг, к морю и солнцу, жила суровой жизнью в рабочем поселке и там, ошеломленная волною людей, бежавших от революции, закружилась в этой волне, очнулась по ту сторону Черного моря, в эмиграции, в беспросветной нищете и одиночестве.
Перед второй мировой войной в Париже заговорили о матери Марии. Это была странная монахиня, может быть, самая странная из когда-либо существовавших монахинь. Она умела столярничать, плотничать, малярничать, шить, вышивать, писать иконы, мыть полы, стряпать, стучать на машинке, набивать тюфяки, доить коров, полоть огород. Она любила физический труд, ей были неприятны белоручки, она ненавидела комфорт материальный и духовный, — могла по суткам не есть, не спать, отрицала усталость, любила опасность. Она вела жизнь суровую, деятельную: начала с того, что открыла на деньги, собранные по Парижу, небольшое общежитие и столовую для безработных на улице Вилла де Сакс, а кончила тем, что на собственный страх и риск сняла большой дом на улице Лурмель, 77, который стал родным для сотен и тысяч обездоленных, голодающих, одиноких во французской столице. Она объезжала туберкулезные госпитали. Она сама мыла полы, красила стены на улице Лурмель, 77… И ей казалось, что и этого мало, что она должна отдавать себя людям еще больше, еще полнее. И только одна была у нее слабость — стихи; она писала их сама, читала часто Блока. «…Я всех забыл, кого любил, я сердце вьюгой закрутил». Она ничего не забыла и, может быть, так мало спала потому, что много думала о России. А судьба била эту женщину безжалостно. Летом 1935 года ее дочь Гаяна, убежденная коммунистка, не мыслившая себе жизни без России, вернулась на Родину; в этом ей помог Алексей Толстой, который в том году был в Париже на I Международном конгрессе писателей в защиту культуры. В Москве Гаяна умерла от дизентерии меньше чем через два года.
Когда гитлеровские войска вторглись в Бельгию, Голландию, мать Мария решила идти пешком на восток. «Лучше погибнуть по пути в Россию, чем остаться в покоренном Париже».
«Хочу на Волгу, в Сибирь, к русским людям», — говорила она.
Но, собираясь в дорогу, она не забывала о тех, кто был рядом, кормила голодающих. Ее часто видели на Центральном парижском рынке: в разорванной, пыльной рясе, в стоптанных мужских сапогах, она таскала на плечах тяжелые мешки с овощами.
События развивались быстрее, чем ожидали, — мать Мария оказалась в покоренном фашистами Париже. Дом на Лурмель, 77 стал одним из штабов Сопротивления. Те обездоленные, голодные, обиженные жизнью, которым она деятельно сострадала, — именно они были опасной силой для фашистов.
И высокая, статная, легкая, уже стареющая женщина с круглым добрым лицом в черном апостольнике еще раз увидела смысл жизни в том, чтобы добро стало делом, на этот раз рискованным, пахнущим порохом и застенком, — ушла с головой в подпольную работу.
Лурмельский комитет был важным центром антифашистской деятельности в Париже. Он передавал посылки, деньги, подложные документы заключенным, устраивал побеги, ловил по радио и распространял советские новости. В доме на Лурмель, 77 скрывались коммунисты, русские, евреи. В 1942 году в нем жили двое бежавших из плена советских солдат. Душой Лурмельского комитета была мать Мария.
В феврале 1943 года ее вместе с сыном Юрой арестовало гестапо. Восемнадцатилетнего Юру отправили в Бухенвальд, где он погиб через несколько месяцев. Ее — в Равенсбрюк…
В одной из парижских газет еще до окончания войны, 4 мая 1945 года, появилась заметка:
Две французские коммунистки из департамента Нор, репатриированные из Равенсбрюкского лагеря, рассказывают: «В нашем блоке была русская монахиня мать Мария. Это была необыкновенная женщина…»
Существует несколько версий ее гибели, каждая из которых похожа на легенду. По одной из них, самой распространенной, 31 марта 1945 года, когда освобождение было уже близко, мать Мария пошла в газовую камеру вместо отобранной фашистами советской девушки. Она обменялась с ней курткой и номером, немногословно объяснив: «Я уже стара, а у тебя вся жизнь…»
Было ли так в действительности? Несколько месяцев после разговора с И. А. Кривошеиным я искал бывших узников Равенсбрюка, писал письма, читал ответы, беседовал с ними. Была у меня даже наивная надежда — найти ту, спасенную ею девушку… Но, несмотря на все старания, мне не удалось отыскать очевидцев самого последнего часа матери Марии, зато я узнал много удивительного об этой необыкновенной женщине. В условиях, дьявольски рассчитанных на то, чтобы человек перестал быть человеком, она не утратила чудеснейшего человеческого дара — она мыслила. И когда одна женщина горько пожаловалась ей, что уже ничего не чувствует и даже сама мысль закоченела, мать Мария воскликнула: «Нет, нет, только непрестанно думайте! В борьбе с сомнениями думайте шире, глубже. Не снижайте мысль…»
Я не помню, чтобы кто-либо в Дантовом аду говорил это потрясающее по мужеству, великолепно-человеческое: «Не снижайте мысль». И она мыслила: о рыжем тумане, сгустившемся над Европой, о борьбе великого смысла человеческого бытия с жестокой бессмыслицей, идущей из глубин тысячелетий, когда «наше» первый раз стало «моим». Она ведь любила эти блоковские строчки, эту мечту о будущем: «И все уж не мое, а наше, и с миром утвердилась связь».
О Блоке она думала, конечно, все время. Там, где люди иногда забывают даже собственное имя, она читала наизусть его стихи. Особенно часто: «Ветер, ветер на всем божьем свете…» Мысль о ветре и была, должно быть, ее последней мыслью.
Чем больше я узнавал об этой женщине, тем сильнее хотелось мне постоять у дома, в котором она тогда ждала Блока. Я поехал в Ленинград и нашел этот дом. Был такой же, похожий на долгие-долгие сумерки, серый, туманный зимний день, как и почти шестьдесят лет назад, когда пятнадцатилетняя Лиза Пиленко, заложив руки в карманы, распустив уши меховой шапки, шла по Невскому, повернула на Галерную…
И я долго стоял перед домом Блока, повторяя, волнуясь, про себя любимые стихи, переживая их заново: в них теперь вошло много такого, чего я не чувствовал, не видел, да и не мог видеть и чувствовать раньше, когда воспринимал в красивых, певучих строках только печаль мудрого, доброго человека, который застенчиво улыбается, чтобы не огорчать милую девочку этой печалью…
Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая…
Время, видимо, накладывает особый отпечаток не только на архитектурные памятники и полотна художников, сообщая им как бы дополнительное, четвертое или пятое, измерение. С особой, волнующей силой оно углубляет и талантливые стихи. Я повторял смущенно-нежные строки, посвященные пятнадцатилетней Лизе, и чувствовал: в них шумит, как в раковине море, столетие, вместившее в себе несказанно много — от духов и туманов Незнакомки до печей Равенсбрюка и от печей Равенсбрюка до песенки парижского шансонье о Юрии Гагарине…