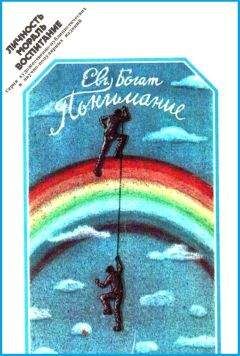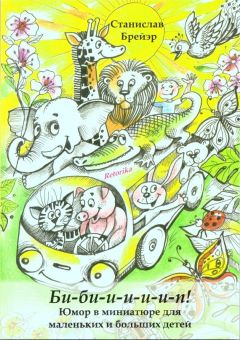Евгений Богат - Узнавание
Само имя это — бестужевка — вызывало в моем сознании что-то юное и женственное, бесконечно женственное и бесконечно юное; и что-то вольное, непокорное, как ветер, как девические темные (почему темные, не понимаю сам) волосы, развеваемые сильным ветром; что-то красивое, легко, изящно и уверенно идущее по земле, и что-то сопряженное с музыкой, с живописью. И с баррикадами.
Однажды летом в мой кабинет в редакции вошла старуха, седая, крупная, с большими мужскими кистями рук, села, отдышалась после жары и ходьбы, подняла лицо, растрескавшееся, как масло на старом портрете, и бурно начала:
— Добрый день. Я — бестужевка. — И назвала себя: — Амалия Эттингер.
То, что эта старая-старая, не менее восьмидесяти по виду, женщина, назвала себя по имени (Амалия!) без отчества, по имени и фамилии, как называют себя совсем юные женщины, стесняющиеся излишней официальности, потрясло меня даже больше, чем это абсолютно неожиданное «бестужевка», начисто не вяжущееся ни с героиней Третьяковки, ни с моим внутренним видением бестужевки.
Почему-то мне казалось, что она — бестужевка — останется навсегда юной, возможно, потому, что перед моим сознанием стоял некий собирательный образ бестужевки вообще.
Я и жен декабристов, ушедших за ними в Сибирь, в каторгу, не мог никогда вообразить старыми (хотя известно, что некоторые из них дожили до старости), наивно объясняя себе это тем, что на известных мне портретах они изображены молодыми. Я и юных героинь Тургенева при всем старании фантазии не мог увидеть старухами, объясняя это силой таланта писателя, очарованного их женственностью. Я не мог вообразить старой Жанну д’Арк, видимо, казалось мне, потому, что ее сожгли восемнадцатилетней.
Но нет, дело не в собирательном образе, не в мощи писательского мастерства Тургенева. Это я понял потом, тогда, когда назвавшая себя бестужевкой старая-старая женщина, которая передо мной сидела в тот яркий летний день, уже умерла. Она умерла, разговаривая по телефону с подругой — тоже бестужевкой, тоже восьмидесятилетней; они обсуждали, как лучше, разумнее сократить том воспоминаний бестужевок. Издательство потребовало уменьшить объем с двадцати до пятнадцати листов, и надо было чем-то пожертвовать, а жертвовать не хотелось ничем. «Думай, Амалия, думай», — говорила ее собеседница. Когда Амалия думала, она посреди разговора умолкала, уходила в себя. «Думай, Амалия, думай», — одобряла подруга ее молчание. Амалия молчала, потому что умерла с телефонной трубкой в руке, с полураскрытым в разговоре ртом — остановилось сердце.
…Она подняла тяжелое, изрытое старостью, как оспой, лицо и объяснила:
— Мы, бестужевки, вас читали, и я уполномочена… — Она помолчала, подумала, как лучше, чтобы получилось и непринужденно и торжественно, выразить мысль: — Уполномочена нашим советом устроительниц традиционных вечеров бестужевок позвать вас на очередной вечер воспоминаний, который имеет быть в Доме культуры… — Она назвала Дом культуры и, окончательно утратив официальность, широко, добродушно улыбнулась: — Будет чаепитие.
Я поблагодарил, обещал быть.
— Но учтите, — нахмурилась она театрально, — общая сумма возраста собравшихся дам составит три тысячи лет! — и естественнейше рассмеялась. — Три тысячи лет, — повторила она весело, уходя в московское июльское пекло.
«Три тысячи лет», — думал я через несколько дней, по дороге к ним на вечер. Меня это, положа руку на сердце, неприятно тревожило. Что испытаю в обществе этих старух? Один телесно одряхлевший человек может быть душевно молод и обаятелен, но тридцать, сорок?!
Я часто бывал в больницах и в разного рода пансионатах и домах, где лечатся, живут, угасают старые люди, и сердце при одном воспоминании о скорбной жизни в тех стенах печалилось и болело. Конечно, на вечере бестужевок не будет больничного духа, больничного страха перед небытием, успокаивал я себя, но три тысячи лет!
За три тысячи лет менялись очертания океанов, рождались и умирали пустыни, вымирали целые виды животных. Это возраст европейской цивилизации.
Если соединить, составить жизни сегодняшних бестужевок, устремится сквозь столетия дорога, у начала которой вырисовывается в утреннем тумане лицо Нефертити. Мысль о том, что лишь тридцать или сорок человеческих жизней, умещающихся — подумать! — за большим столом традиционного чаепития, отделяет меня от эпохи, когда странствовал Одиссей, казалась мне совершенно фантастической.
Современный человек ощущает с особой остротой бег минут, часов, дней, быстролетность человеческой жизни, изменчивость мира. Даже начало нашего века с синематографом, аэропланом, незнакомками кажется сквозь водопад лет размытым, странным, неправдоподобным. А это их, последних бестужевок, молодость. Мне нелегко вообразить, что это было в нашем веке. А это было в их жизни. Что это — человеческая жизнь? «Быстры, как волны, дни нашей жизни», — пели студенты в начале XX века. Сегодняшний человек никогда не сопоставил бы — даже в песне — ритм жизни с волнами, ибо волны совсем не быстры: их бег замедленно величав. И мы сегодня с особым наслаждением отдыхаем у моря именно потому, что «дни нашей жизни» быстрее волн. Не потому ли море, которое некогда волновало, сейчас успокаивает? Мы возвращаемся к ритму космоса.
Но дни и нашей жизни можно сопоставить с волнами, потому что на детский вопрос: «Куда уходят дни?» — мы можем ответить: «Они возвращаются — они возвращаются в море, в котором до сих пор странствует, испытывая сердце и ум, Одиссей, и поднимает бесстрашные паруса каравелла Колумба, и загорается маяк у берега, на который ступит для битвы Байрон, и открывает новую красоту Гоген…» Они возвращаются в это море. Никогда еще чувство общности волны с морем — человеческой жизни с человеческой историей — не было полнее, чем сейчас. Никогда! Несмотря на быстролетность минут и дней и ошеломляющую изменчивость мира. А может быть, именно из-за изменчивости и быстролетности.
Я вошел в зал с накрытыми для чаепития столами, когда оно уже началось. Я опоздал, не рассчитывал, что они начнут минута в минуту, полагая, что будет именно чаепитие: старые люди сидят, пьют чай и негромко беседуют. А они начали, видимо, абсолютно точно, и чаепитие их, как я понял, было особым.
— «Сегодня, — услышал я, — в шесть часов пять минут утра умер на станции Астапово Лев Николаевич Толстой. В России траур. Студенты и курсистки отменили лекции…»
Наступила тишина; я стоял растерянно на пороге.
— Идите сюда! — оглушительным шепотом позвала меня Эттингер.
Я быстро и неловко занял место рядом с ней.
— «…отменили лекции, поют „Вечную память“, говорят речи…» — читала, возвышаясь в полный рост над столом, женщина в темном, торжественном, лица которой я не видел из-за поднятых к нему старых-старых листков исписанной бумаги.
— Читает дневник десятого года, — пояснила Эттингер, пододвинув ко мне бутерброды со шпротами.
— «…Полиция тоже не бездействует, казаки разъезжают с обнаженными шашками, разгоняют толпу. Завтра на курсах сходка в десять часов утра…»
Она опустила листки, посмотрела на собравшихся. Никто не ел, и никто не пил. Женщины сидели не шелохнувшись, с выражением величайшей серьезности. Особенно серьезна, даже торжественна была сама читавшая.
— Завтра в десять утра… — повторила, сосредоточенная на только что сообщенном потрясающем известии.
— Завтра, в десять утра, — повторило несколько голосов.
— Завтра, — улыбнулась Амалия.
«Завтра, — подумал я. — Завтра в десять утра они пойдут на траурную сходку. Сегодня в шесть утра умер Л. Н. Толстой».
— А теперь несколько записей за одиннадцатый год…
— Это был год, — шепнула мне на ухо Амалия, — романов. Все повлюблялись.
Но, собственно, о любви я не услышал. Женщина, сообщившая о кончине Толстого как о самом последнем, величайшей важности событии — теперь уже не торжественно и строго, а с какой-то веселой искрой в голосе, — читала о посещениях Мариинского театра, операх с участием Шаляпина, литературных вечерах, загородных экскурсиях и пикниках. Она называла имена Юрия, Аркадия, Петра рядом с женскими именами, и по какой-то еле уловимой печали, темнившей лица бестужевок, я догадывался, что и Юрий, и Аркадий, и Петр давно умерли. Они остались в той жизни, где пели Собинов и Шаляпин. А женщины, чьи имена назывались рядом с их именами сейчас, через бездну лет, сидят за этим столом — это тоже было ясно по взглядам, которые устремлялись то туда, то сюда. И я вдруг ощутил, что самая реальная вещь в мире — чувства.
И чувства — самая юная, единственно юная вещь в мире. Стареют пирамиды, горы, земля и небо, чувства не стареют. И я вдруг почувствовал, что в этом зале со столом, уставленным скромным угощением, нет старости.
— А во что мы играли? Играли в шарады, — расхохоталась Амалия. — Ты помнишь наши шарады? — обратилась она к соседке.