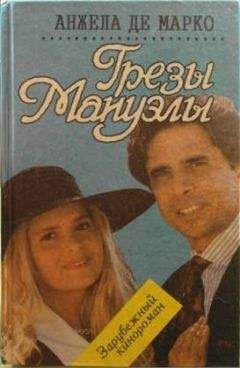Вода и грёзы. Опыт о воображении материи - Башляр Гастон
По всей вероятности, непосредственный человеческий образ молока и оказался психологической опорой ведического гимна, процитированного Сентивом[287]: «Воды – наши матери, желающие участвовать в жертвоприношениях, приходят к нам, следуя путями своими, и раздают нам свое молоко»[288]. По существу, ошибется тот, кто увидит здесь не более чем смутный философский образ благодарности божеству за благодеяния, оказанные нам природой. Сила сцепления здесь гораздо интимнее, и мы полагаем, что она объясняется абсолютной цельностью реалистического образа. Можно сказать, что для материального воображения вода, как и молоко, – настоящий продукт питания. Гимн, приведенный Сентивом, продолжается так: «В водах – амброзия[289], в водах – лекарственные травы… Воды, доведите до совершенства все средства, отгоняющие болезни, дабы тело мое испытало ваше блаженное воздействие и дабы я мог долго зреть солнце».
Вода становится молоком, коль скоро ее воспевают с пылом, коль скоро чувство поклонения перед материнским характером вод наделяется страстью и искренностью. Гимнический тон, если только он воодушевляет искреннее сердце, – с любопытной точностью восстанавливает ведический образ. В книге с претензиями на чуть ли не научную объективность Мишле, сообщая о своих воззрениях (Anschauung) на море, совершенно естественно приходит к образу молочного, витального, кормящего моря: «Эти питающие воды перенасыщены всевозможными видами питательных атомов[290], соответствующих вялой натуре рыб, которые лениво открывают рот и ждут кормления, словно эмбрионы в лоне общей матери. Осознают ли они свое глотание? Вряд ли. Микроскопический корм приходит к ним, подобно молоку. Величайшее и неизбежное мировое бедствие, голод, бывает только на суше; здесь все создано так, чтобы его не было, здесь его не знают. Ни малейшего напряжения в движениях, никаких поисков пищи. Жизнь должна плыть по течению, словно греза»[291]. Разве не очевидно, что это – греза пресыщенного ребенка, купающегося в ощущении блаженного комфорта? Мишле, несомненно, на разные лады рационализировал восхитивший его образ. Для него, как мы писали выше, морская вода представляет собой своего рода слизь. Она уже обработана и обогащена жизнедеятельностью микроскопических существ, привносящих в нее «пресные, благотворные и способствующие плодородию элементы» (р. 115). «Слово „плодородие“ позволяет нам по-новому и более глубоко взглянуть на жизнь моря. Питомцы моря по большей части имеют студнеобразный вид зародышей, они впитывают и производят слизистую материю, переполняя ею воды и придавая им плодородный, пресный и мягкий характер вод, находящихся внутри безграничной утробы, где новорожденные беспрестанно плавают, как в тепловатом молоке». Такая пресность, мягкость и тепловатость – изобличающие улики. Объективно о них не напоминает ничто. Субъективно же их оправдывает все. Величайшая реальность вначале соответствует тому, что едят. Морская вода, с панбиологической точки зрения Мишле, «животная вода», скорее всего является первопищей всех существ.
Наконец, наилучшее ее доказательство тому, что образ «кормилицы» господствует над всеми остальными, – отсутствие колебаний у Мишле, когда он, в космическом плане, переходит от молока к женской груди: «Постоянными и заботливыми ласками, округляющими очертания берега, [море] придало этим контурам нечто материнское, и я бы даже сказал, явную нежность женских грудей, того, в чем дитя находит уют, кров, тепло и покой»[292]. В глубине какого залива, у какого округленного мыса Мишле смог бы увидеть образ женской груди, если бы его сначала не покорила, а потом снова не овладела им сила материального воображения, мощь субстанциального образа молока? У столь дерзновенной метафоры не может быть иного объяснения, кроме основанного на принципе материального воображения: именно так материя господствует над формой. Грудь округлена, потому что она разбухла от молока.
Итак, поэзия моря у Мишле – это греза, обитающая в некоей глубинной зоне. Море обладает материнскими качествами, вода – чудесное молоко; земля в своих утробах готовит теплую и живительную пищу; у берегов вздуваются груди, дающие всем тварям питательные атомы. Оптимизм – это изобилие.
III
Может показаться, что, утверждая эту непосредственную связь моря с материнским образом, мы ошибочно трактуем проблему образов и метафор. Возражая нам, можно настаивать на том, что обыкновенное наблюдение, простое созерцание картин природы, очевидно, тоже порою навязывает нам непосредственные образы. Можно выдвинуть, например, и такое возражение: весьма многочисленные поэты, вдохновленные спокойным пейзажем, говорят нам о молочной красоте тихих озер при свете луны. Итак, остановимся на этом столь характерном для поэзии вод образе поподробнее. Сколь бы внешне неблагоприятным для наших тезисов о материальном воображении он ни казался, в конечном счете он поможет нам доказать, что его привлекательность для самых разнородных поэтов объясняется материальными причинами, а вовсе не формами и цветом.
Как же, в самом деле, реальность этого образа представляют себе физически? Иными словами, каковы объективные условия, определяющие создание этого конкретного образа?
Для того чтобы перед озером, спящим под луною, воображению предстал образ молока, нужен рассеянный лунный свет – нужна вода, хотя и слабо, но все-таки волнующаяся, нужно, чтобы поверхность ее не отражала «напрямую» освещенный лунными лучами пейзаж, – короче говоря, нужна вода, превращающаяся из прозрачной в полупрозрачную, нужно, чтобы она нежно помутнела, стала опалового цвета. Однако это все, что с ней может произойти. Воистину – разве этого достаточно, чтобы навести на мысль о крынке молока, о пенящемся ведре фермерши, о молоке, существующем объективно? По-видимому, нет. Все-таки следует признать, что этот образ не обязан объективным данным наблюдения ни своим первопринципом, ни своей выразительностью. Для обоснования убеждений поэтов, для истолкования частности и естественности образа к нему следует присовокупить незримые составные части, компоненты, природа которых отнюдь не визуальна. Это как раз те составные части, через которые проявляется материальное воображение. Одна лишь психология материального воображения в состоянии интерпретировать этот образ во всей его подлинной тотальности и жизненности. Так попробуем же интегрировать в единое целое все компоненты образа, отвечающие за его действенность.
Какова глубинная основа такого образа молочной воды? Это образ теплой блаженной ночи, обволакивающей материи, образ, вбирающий в себя одновременно воздух и воду, небо и землю, объединяющий их, образ космический, обширный, огромный, нежный[293]. Переживая образ молочной воды в его подлинности, признаёшь, что это не мир купается в молочном свете луны, но, скорее, наблюдатель купается в блаженстве, до такой степени физическом и несомненном, что ему удается воскресить ощущение самого изначального комфорта, самой сладкой пищи. К тому же речное молоко никогда не замерзнет. Ни один поэт никогда не говорит, что на воды бросает молочный свет зимняя луна. Для анализируемого образа необходимы тепловатость воздуха, нежность света, душевный покой. Вот каковы материальные составляющие образа. Это выразительные и примитивные составляющие. Белизна приходит только впоследствии. Она выводится путем умозаключения. Она выглядит как своего рода прилагательное, ведомое существительным, и стоит после существительного. В царстве грез порядок слов, стремящийся сделать цвет белым, как молоко, обманчив. Грезовидец сначала воспринимает молоко, впоследствии же его заспанные глаза иногда замечают белизну.
В отношении же белизны в царстве воображения никто особой разборчивостью не отличается. Пусть на реку упадет золотой луч луны, даже и тогда формальное и поверхностное цветовое воображение не растеряется. Воображение, увлеченное поверхностью вод, увидит белое в желтом благодаря тому, что материальный образ молока достаточно интенсивен и продолжает в глубинах человеческого сердца свое нежное поступательное движение для окончательного успокоения грезовидца, для порождения материи или субстанции, производящей блаженное впечатление. Молоко – первый транквилизатор. Именно поэтому спокойствие человека вливает в созерцаемые воды молоко. В своих «Похвалах» Сен-Жон-Перс[294] пишет: