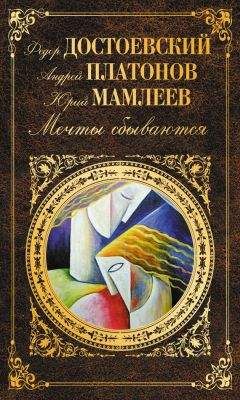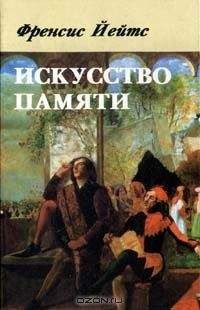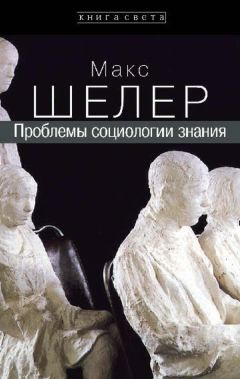Иван Болдырев - Время утопии: Проблематические основания и контексты философии Эрнста Блоха
Мысль о том, что проблески будущего избавления можно обнаружить в настоящем, весьма характерна для иудейской мистики[378]. «Встреча с самим собой» – цель и смысл преображения человека в «Духе утопии» – описана и в мистических техниках профетической каббалы, в школе Авраама Абулафии[379]. В определенный момент медитации каббалиста «внутреннее проявит себя вовне и с помощью чистого воображения примет форму сияющего зеркала… После этого человек видит, что его сокровенная сущность оказывается вне его самого»[380]. Как тут не вспомнить основной лозунг «Духа утопии» – поиск путей, которыми направленное вовнутрь устремилось бы вовне, а направленное вовне – вовнутрь.
Отдельного упоминания заслуживают рассуждения Блоха об Иисусе Христе и о сложнейшей проблеме отношения еврейской религии к христианству. Блох отмечает, с одной стороны, глухое неприятие прошлых поколений, а с другой – удивительно позитивное отношение к Христу со стороны новых поколений евреев. Комментируя «Послание к римлянам», он пишет о том, что еврейский народ всегда играл важную роль для апостола Павла[381], что в недрах его всегда присутствовал Иисус как мессианский дух, что в агадической литературе всегда было место страдающему мессии[382].
Однако евреи так и не приняли Христа, еврейство «застыло в пустом формалистическом традиционализме и вполне трезвом, абстрактном деизме» (GU1, 330)[383]. Блох провозглашает нового Бога, «в нашей глубочайшей, пока безымянной внутренней сокровенности спит последний, неизвестный Христос[384], покоритель холода, пустоты, мира и Бога, Дионис, неслыханной силы теург, которого предчувствовал Моисей, а мягкосердечный Иисус лишь облачил, но не воплотил в себе» (GU1, 332). Центральная роль Иисуса, по мнению Шолема, – результат воздействия на Блоха раннего Бубера. Так или иначе, назвать Блоха христианином хотя бы по этому признаку – ожиданию «нового» Христа – уже нельзя.
Было ли иудейское начало для Блоха решающим как таковое или же он лишь подчинял его задачам своей философии, высекая из иудейской премудрости искры утопических идей? Быть может, прав Хабермас, утверждавший, что, поскольку Блох как философ следовал за Шеллингом и романтиками, а они активно использовали каббалистические идеи, его иудейская выучка – характерная черта самого что ни на есть немецкого духа, охотно учившегося у иудеев[385]?
Христианские еретики
…мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
Рим. 8:23–26.Очевидно, что без воздействия христианства в целом и разных форм христианской мистики представить себе философию Блоха тоже невозможно. Любые идеи – в том числе имеющие иное, иудейское или гностическое происхождение – соотносились с христианским видением мира, человека и истории. В беседе с Ж.-М. Пальмье за год до смерти Блох подчеркивает, что верующим евреем он не является и что корни его мышления – в христианстве[386]. Действительно, талмудическую формулу «киддуш хашем» (освящение Божьего имени, важная практика в иудаизме) Блох, например, толкует как христианское «Отче наш». Отвергая античную онтологию припоминания, Блох открывал в христианстве религию революционной антиципации будущего мира. Причем в ранних работах он даже ждал «радикального обновления католицизма из духа францисканской жизни и Экхартовой, доминиканской мистики» (TM, 103)[387].
Однако и в христианстве Блох искал те элементы, которые были близки его революционному инакомыслию. Ветхозаветного змея, соблазнившего Еву и вызвавшего грехопадение, он в поздней работе «Атеизм в христианстве» трактует почти как Прометея, освобождающего людей, делающего их богоравными, показывающего человеку мир, лежащий за пределами заданного Демиургом-Яхве. В «Принципе надежды» он, например, отдельно обсуждает учение офитов, поклонявшихся змее[388] – амбивалентному образу абсолютного зла (в том числе – первородного греха) и абсолютной мудрости (PH, 1495ff.). Строительство Вавилонской башни он толкует как дерзкий революционный вызов авторитету и авторитарности высшей божественной власти (AC, 119). Именно Бог Исхода, Бог Моисея, а не Бог традиционной религии есть для Блоха истинный утопический Абсолют. Еще одним библейским Прометеем поздний Блох считает Иова, сотрясающего стабильный миропорядок изнутри, возвышающегося над Богом (AC, 155ff.)[389]. Христос выделяется у Блоха именно потому, что он не был ни мечтателем, ни воином, боровшимся, как мятежник Бар Кохба, за существующий порядок вещей, – его царство, царство людей, вело прочь от авторитаризма иудейской религии к новому царству конца времен, и в этом смысле Христос стал у Блоха одной из вершин иудейской апокалиптики (AC, 182f.). При этом у позднего Блоха в основу мессианской идеи в качестве ее непременного условия кладется атеизм (PH, 1413)[390].
Блох отвергает мистику крови, обвиняя апостола Павла в том, что искупительная жертва Иисуса, ставшего мессией вопреки своей смерти, трактуется у него как условие, благодаря которому Иисус становится мессией. Иисус у Блоха осознает себя как человек, как тот, кто передает эстафету мессианской идеи Святому духу, духу-утешителю (PH, 1489ff.), а в конечном счете – всему освобожденному человечеству. Мы не останавливаемся, мы идем дальше Христа, и здесь, безусловно, пролегают границы между Блохом и самым «либеральным» христианством, для которого после Христа уже ничего принципиально нового не происходит, для которого пришествие
Христа – это и есть то абсолютное событие, в котором и наше прошлое, и будущее[391].
Важную роль играет для Блоха и христианская мистика, ведь в опыте мгновения, предвосхищения целостности мира угадывается и то озарение индивидуальности, которое христианские мистики трактовали как переживание единичного человека. Самый характерный пример – рождение Бога в сокровенности человеческой души, о котором говорит Экхарт в своей проповеди «О вечном рождении». Ни образу, ни слову, ни вообще чему-либо внешнему этот опыт неподвластен, он появляется после забвения всего внешнего, себя самого, когда Господь изрекает сокровенное Слово[392]. Впрочем, Блох, цитируя это место, пишет:
У Экхарта, конечно, сколь бы энергично он ни вопрошал тут же: «Где родившийся царь Иудейский?»[393], субстанция света все еще отодвинута в дальнюю высь, удалена в пространстве от субъекта и от нас, к сверхбожественному Богу, в сокровеннейшие глубины, где кружится голова и сияет ангельский свет, в которых, однако, менее всего может содержаться, разрешиться единственная тайна, тайна нашей близости. Нет, это должно быть проживаемое ныне мгновение, и лишь оно одно, его тьма есть единственная тьма, его свет есть единственный свет, его слово – это изначальное понятие (Urbegriff), которое все разрешает. Нет ничего возвышенного на земле, чья возвышенность не сообщала бы нам предчувствия будущей свободы, первое вторжение «царства»; и даже сам мессия (Кол. 3: 4)[394], несущий абсолютное соответствие (Adäquation), есть не что иное, как открытый (наконец) лик непрестанно длящейся, ближайшей глубины нашей (GU2, 246f.).
Наконец, вдохновенное визионерство Якоба Бёме, соединенное с алхимическим экспериментированием, оказало сильнейшее впечатление на Блоха с его позднейшими натурфилософскими спекуляциями. Бёме был еще одним в ряду христианских мистиков (и еретиков!), учредивших новое неортодоксальное мировоззрение и знаковых в эпоху интеллектуального становления Блоха (в частности, учение Бёме очень заинтересовало Бубера, не говоря уже о русских религиозных философах). Волевому импульсу, положенному Бёме в начало мира, соответствует в поздних работах Блоха утопическая энергия человеческого и природного бытия. Метафорика Бёме, с его метафизически замысленными, но при этом физически осязаемыми концептами света и тьмы, озарения, внутреннего зеркала, мучений, трепета и брожения материального бытия, его плотский язык, дуалистическая натурфилософия – все это естественным образом было встроено в философию утопии Блоха с самого начала.
Однако местами гностическое бунтарство раннего Блоха вступало в явное противоречие с учениями христианских мистиков. Радикализм гностиков, идеология «великого отказа» никак не сочетаются с неоплатонизмом и континуалистской метафизикой, а ненависть к природе – с натурфилософскими интересами того же Бёме. При очевидной близости позднего Блоха к традиции Бёме – Баадера – Шеллинга с их идеями становящейся природы, реализующей в том числе и мессианские возможности, некоторые ранние идейные настроения его очень далеки от этой мыслительной традиции.