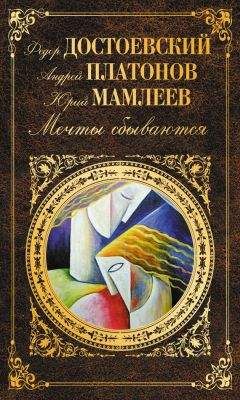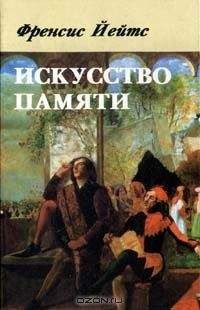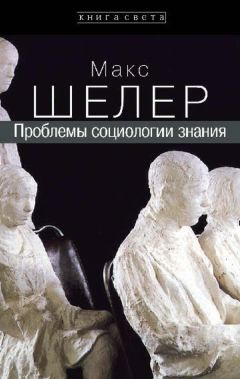Иван Болдырев - Время утопии: Проблематические основания и контексты философии Эрнста Блоха
Стоит, однако, оговориться, что, во-первых, фундаментальные характеристики еврейской религии, которые давал Коген (а именно – монотеизм как устремленность к Единому и идеология гуманности как мессианское видение будущего человечества), очень близки тому, что говорил о евреях Блох в «Духе утопии». Да и общие итоги размышлений Когена – «провиденциальное истолкование истории в духе этического социализма»[367], – равно как и идея постулативного, этического измерения, возвышающегося над данностью человеческой жизни, при всех различиях вполне соразмерны утопическому мессианизму Блоха.
Во-вторых, Блох не разделял сионистских взглядов Бубера, сделавших его популярным среди еврейской молодежи. Справедливости ради надо сказать, что ранний Бубер считал главным не исход евреев на свою родину, а преодоление внутренних границ, внутреннее духовное освобождение и преображение. Но так или иначе сионизм как идеология национального государства претил космополитизму и социалистическому мировоззрению Блоха-маркионита, равно как и мистическому анархизму другого еврейского радикала – трагически погибшего Густава Ландауэра (1870–1919), автора книг «Скепсис и мистика» (1903) и «Революция» (1907), друга Бубера и Кропоткина. Блох же воспринимал сионистские идеалы как профанацию еврейской миссии, банальный исход всемирного освободительного движения. Внимание Блоха и Ландауэра в 1917 г. было приковано к России, а не к Израилю[368]. Категорически не устраивал ни Блоха, ни Беньямина, ни Ландауэра и милитаристский пафос Бубера во время Первой мировой войны.
(Мы не будем специально касаться здесь вопроса политической близорукости Блоха и его современников, но интересно, что с Бубером Блоха роднила и единая политическая стилистика – теологизация политических понятий, с поразительной неизбежностью ведущая к их расплывчатости, отдающая их на откуп любой, даже самой тенденциозной интерпретации.)
Ландауэр призывал вернуться к средневековой коммуне, к всеобщему братству, которое, вполне в традиции еврейского эсхатологизма и немецкого романтизма, мыслилось как восстановление утраченного «золотого века» и вместе с тем как полное разрушение существующих институтов. Восставая против косной мифологии и надмирной религии, Ландауэр верил в возможность мгновенного изменения мира в социалистическом духе, причем связывал это изменение (под влиянием Бубера) со всемирно-исторической миссией еврейского народа, не ведающего границ и национально-государственных предрассудков и ведомого своими главными пророками – Моисеем, Христом и Спинозой. Блох, безусловно, испытал некоторое влияние Ландауэра, отразившееся как в «Духе утопии», где анархизм сочетается с духовным аристократизмом и где утопия понимается в революционном, активистском духе, так и в «Томасе Мюнцере», где воспеваются социалистическая религия, тотальное крушение мира и конец времен. Следуя Ландауэру, Буберу, Фрицу Маутнеру[369], Блох искал новый язык, новый опыт, выходящий за пределы привычных форм знания. Но, в отличие от Ландауэра, возвращение к «золотому веку» для Блоха, как мы уже видели, невозможно, суть утопии – принципиальная готовность воспринимать новое и столь же принципиальное недоверие к любым формам реставрации. Утопический проект Ландауэра был выстроен с гораздо большей определенностью и заданностью, чем у Блоха, для которого даже «идеальный» социализм не был «конечной остановкой»[370].
Еще один важный в этом контексте автор, Розенцвейг, связал свою философию с интенсивным переживанием мгновения – переживанием символического единства религиозной общины – и вместе с тем с настойчивым, напряженным ожиданием спасения – ожиданием, оживляющим время истории и придающим ему смысл. У Розенцвейга это очень необычное ожидание – община должна жить в ситуации, когда Царство может вот-вот прийти, спасение – вот-вот свершиться. Эта предельная интенсивность переживания времени обнажает уже известный нам парадокс: мы балансируем на грани между культом мгновения, конденсацией истории в одном миге, и постоянным смещением финала истории в будущее, ожиданием мессии.
В 1-м издании «Духа утопии» есть глава под названием «Символ: евреи» (GU1, 319–331), текст ее был написан еще в 1912 г. В ней Блох дает характеристику настроений среди еврейских интеллектуалов своей эпохи и помещает эти умонастроения в исторический контекст. Еврейское миросозерцание – это, согласно Блоху, неприятие мира[371], стремление преобразить жизнь на справедливых и духовных началах и мессианизм как одержимость некой надмирной целью для всего человечества, а не только для еврейского народа (GU1, 321 f.). Такое понимание мессианизма, возможно, инспирировано Ландауэром, но содержится и в еврейских источниках. В самом конце «Духа утопии» Блох приводит обширную цитату, акцентируя иудейское происхождение своей философии:
«Знай же, – сказано… в древнем манускрипте книги Зогар[372], – что любой из миров можно видеть двояко. Первый взгляд показывает их внешность, а именно всеобщие законы миров сообразно их внешней форме. Другой же указывает на внутреннюю сущность миров, а именно средоточие и суть душ человеческих. Существуют соответственно два уровня делания – труды и молитвенное послушание; труды – для того, чтобы усовершенствовать миры относительно их внешнего устроения, молитвы же – чтобы поместить один мир в другой и поднять его ввысь». В таком функциональном отношении между высвобождением и духом, марксизмом и религией, объединенными в единой воле к царству, струится, вбирая в себя все притоки, окончательная система: душа, мессия, апокалипсис… дают последние импульсы действия и познания, формируют априори всякой политики и культуры (GU2, 345f.).
В такой же двойственности пребывает мир еврейской жизни, описанный у Розенцвейга: у всякой вещи в этом мире есть помимо обыденного употребления некое «двойное дно», другое измерение, сквозь которое просвечивает грядущий мир[373].
Блох считает, что человек, сумевший внутренним оком охватить себя и рассеять тьму и непрозрачную пелену собственного сознания, способен полностью переделать мир. Эта идея наследует не только ницшеанскую концепцию сверхчеловека (с ее динамическим поиском и радостным утверждением жизни и себя в жизни), но и иудейские представления об осуществлении Бога, о Шхине (божественном присутствии), отпадшей в конечный мир и способной вернуться к божественной сущности лишь через действие человека, через избавление[374]. Бубер и Блох вполне сходятся на том, что спасение находится в руках человека, который должен, погрузившись в себя и испытав свою душу в ее подлинности, в ее обнаженности, ощутить целостность своего Я и по-настоящему пережить единение Я и мира, то первоначальное единство, что лежит в основе всякой двойственности.
Однако есть и еще одно немаловажное измерение иудейской традиции: представление о мессии, выполняющем свое историческое предназначение лишь после того, как человечество созрело и готово встретить его. Такой мессианизм Блох находит в священных текстах иудаизма – в Гемаре говорится, что последнее чудо важнее первого, а в основе истока («альфы») лежит событие конца («омега»), еще не случившееся, но пробивающееся сквозь настоящее: Адам Кадмон, первый человек, определяется тем всечеловеком, которого ожидают грядущие времена. Каббалистическое воссоединение разрозненных духовных сил, искр духа, Блох кладет в основу доктрины утопического ожидания.
Кроме того, он опирается на саббатианизм и религию радости, повторяя вслед за Баал-Шемом, что «радость больше закона» (GUI, 330)[375]. В описании трагических времен, которые должны наступить, когда мир будет совершенно обезбожен, и в метафорах «искры конца», которую мы несем на своем пути, комментаторы видят отзвуки лурианской каббалы[376], хотя Блох мог позаимствовать эту метафорику не только у каббалистов, но и у гностиков.
Гершом Шолем пишет, что утопическая традиция в мессианизме наиболее удачно воплотилась именно у Блоха. Причем Шолем считает, что Блох обязан своими прозрениями «энергии и глубине мистического вдохновения», а не «джунглям марксистских рапсодий»[377]. Почему Шолем так выделяет Блоха? Видимо, потому, что увидел в «Духе утопии» если не букву, то дух еврейской эсхатологии, в загадочных формулах – аллегории пророков, повествующих о конце времен после того, как им открылась вся история мира, разочаровавшихся в истории явной и одержимых идеей конца. Блох наследует их энергию и вдохновение.
Мысль о том, что проблески будущего избавления можно обнаружить в настоящем, весьма характерна для иудейской мистики[378]. «Встреча с самим собой» – цель и смысл преображения человека в «Духе утопии» – описана и в мистических техниках профетической каббалы, в школе Авраама Абулафии[379]. В определенный момент медитации каббалиста «внутреннее проявит себя вовне и с помощью чистого воображения примет форму сияющего зеркала… После этого человек видит, что его сокровенная сущность оказывается вне его самого»[380]. Как тут не вспомнить основной лозунг «Духа утопии» – поиск путей, которыми направленное вовнутрь устремилось бы вовне, а направленное вовне – вовнутрь.