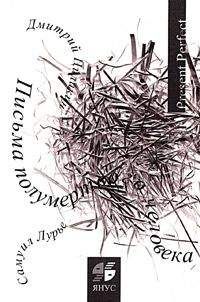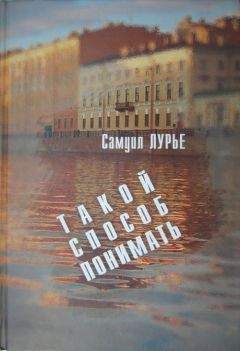Самуил Лурье - Муравейник (Фельетоны в прежнем смысле слова)
Отступился. Все же гады понимали, что Н. И. - существо высшего порядка и что за нею ни малейшей вины, - присудили еще пять лет и вечную ссылку.
Но книга Н. И. Гаген-Торн "Memoria" - не об унижениях и боли, - а о том, как быть счастливой и свободной где угодно, хоть в карцере.
"Можно в самой глубокой каменной коробке научить себя слышать плеск воды, видеть ее серебристое сияние и не замечать, что ты заперта, что неба и воздуха нет. Есть особая радость в чувстве освобождения воли, в твоей власти над сознанием. Кажется, вольный ветер проходит через голову, перекликаясь через тысячелетие со всеми запертыми братьями. И все мы, запертые, поддерживаем друг друга в чувстве свободы..."
Воспоминания Н. И. - особенно "Второй тур" - увы, пережили автора, но зато переживут и нас. А что по этому поводу не выпито в кают-компании революционного Корабля - подумаешь! У дочери з/к не такие возможности, как у эмигрантской внучки, - это же понятно.
Письмо XXIII
2 ноября 1995
Вдруг, один за другим, вышли два тома "Библиотеки поэта" - Волошин и Мандельштам. Кто-то (говорят - петербургская мэрия) не пожалел огромных денег, - а ведь можно было накупить автоматов на целый взвод. Но зато эти две книжки - в неуклюжей униформе с нелепыми позументами - превосходят качеством и прочностью весь остальной валовой национальный продукт.
Не знаю, есть ли у истории российской еще какая-нибудь цель - а эта вроде очевидна: доводить людей до отчаяния, поэтов - до ясновидения.
О Мандельштаме лучше вообще помолчать - примерно как о Пушкине, - "ведь все равно ты не сумеешь стекло зубами укусить". Тут поэзия как таковая смысл смысла, осознавший свою бесконечность, - и голос слуха... короче, с материалистической точки зрения существование "Воронежских тетрадей" необъяснимо.
Но, конечно, нигде, кроме как в сбывшемся бреду Кремлевского Горца, невозможна такая свобода поэта от читателя - и даже от самого себя.
А Волошин понимал поэзию как тождество смысла и текста - в сущности, как прозу без лишних слов. И не случись Мартобря, остался бы в истории литературы неяркой подробностью одного из удаляющихся созвездий.
Правда, кое-что личное отчуждало его от русских так называемых символистов: не был актером своих стихов, а главное - умел сострадать. В молодости - женщинам, а после - человечеству и особенно - России.
В революцию жалость дошла до неистовства, и он ее смирял только неукротимой верой в неподлинность реальности. Человеческая история жестокие игры существ уродливых и случайных, отчасти мнимых, - а на самом деле любой из нас - искра некоего пламени - остывшая, превратившаяся в частицу золы. Вихрь взметает нас и обрушивает друг на друга и толпу на толпу - так раздувают костер, - в конце концов мир вспыхнет, и мы погибнем как разобщенные тела, но зато снова станем одним огнем, одной душой, одной любовью.
А наша здешняя судьба - неизбежная судьба топлива - ужасна, прекрасна, не имеет значения:
Всем нам стоять на последней черте,
Всем нам валяться на вшивой подстилке,
Всем быть распластанным с пулей в затылке
И со штыком в животе.
Помолимся же за палачей: ведь самый низкий из них - все-таки пленный ангел в дьявольской личине.
Смерть пришла за Волошиным раньше, чем ГПУ Но, как и Мандельштам, он успел заслужить мученический венец. Стихотворение "Террор" (1921-й год, Симферополь при большевиках) - невероятный поступок. До какого бесстрашия доводит кротких - жалость!
Освещали ручным фонарем.
Полминуты работали пулеметы.
Доканчивали штыком.
Еще недобитых валили в яму.
Загоняли прикладами на край обрыва.
Торопливо засыпали землей.
А потом с широкою русскою песней
Возвращались в город домой.
А к рассвету пробирались к тем же оврагам
Жены, матери, псы.
Разрывали землю. Грызлись за кости.
Целовали милую плоть.
Какая нечеловечески нежная насмешка в последней строчке - над нашим доверием к жизни, к смерти...
Допустим, Волошин прав: ни того, ни другого нет - и все мы неизвестные солдаты вечного огня - и все равно, кому какая случайно досталась роль.
Даже если и так - много ли надо человеку для блаженства - достаточно посетить сей мир в его минуты роковые - или хоть книжную лавку...
Письмо XXIV
15 ноября 1995
Правильнее всего было бы: не глядя вниз, в стремительно кровенеющую помойку, и ни к чему не прикасаясь, кроме некоторых книг, вспомнить что-нибудь не омерзительное. Например, давно пора осторожно похвалить издательство "Terra Fantastica" за грандиозный (хоть и похожий на суицидную попытку) проект - за "Библиотеку мировой литературы". На днях выходит пятый, что ли, том: жития византийских святых. А Вольтер и афоризмы французских мыслителей уже... Но - чу!
- Зиг хайль! Зиг хайль! - скандирует, ликуя, тысячная толпа вчерашних пионеров - и не в тревожном сне интеллигента: в зале столичного кинотеатра "Перекоп" 9 ноября сего года, поздно вечером.
Странное место, зато время - самое то, выбрано со вкусом: пятьдесят седьмая годовщина "Хрустальной ночи". В других городах мира - траурные митинги, даже в нашем населенном пункте общество "Русско-немецкий обмен" и "Мемориал" собрали человек сто. Поминальные свечи, невеселая музыка... То ли дело в "Перекопе": рубится группа "Коррозия металла", и торчит на сцене какой-то под Гитлера загримированный - усики, челка, мундир, - и якобы по-немецки вопит все равно понятно что, и ручонку простирает, а на повязке свастика, наш любимый славянский рунический знак, - и чьи-то молочные железы обнаженные колышутся в луче прожектора, и лично В. - помните? такой красивый, респектабельный, непреклонный... так вот лично он, владелец "Перекопа", клянется у микрофона, что мы обязательно пройдем по трупам наших врагов... куда - не слышно из-за приветственных кликов. Зиг хайль! Не зевай, телевидение! Хрустальная ночь еще вся впереди.
Не Варфоломеевская, не Вальпургиева, и вообще ничего особенного тогда, в 1938-м, не случилось - просто еврейские погромы по всей Германии. Какие-то молодые под начальством каких-то респектабельных подожгли синагоги, разорили сколько-то квартир. Убили кое-кого, это понятно. И разбили тысячи зеркальных витрин - дочиста ограбив, само собой, магазины проклятых неарийцев. Наутро выяснилось, что власти приветствуют инициативу масс, и население сплотилось, как никогда, вокруг родной партии, а евреи действительно вне закона и обречены, и бежать поздно - и улицы покрыты слоем осколков бельгийского хрустального стекла.
Кажется, в 1859-м в Лондоне открылась Всемирная выставка. Для нее построили необыкновенное здание - Хрустальный дворец. В котором-то из снов Веры Павловны этот дворец изображен: "чугун и стекло, чугун и стекло только". Вообще - призрак этого здания много значит в русской литературе. Герой "Записок из подполья" шпыняет Чернышевского:
"Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать..."
Вспомним еще Потугина в тургеневском "Дыме" и роман Замятина "Мы"... Словом, это тема разветвленная. Заметим одно: людям девятнадцатого века стекло представлялось прочным строительным материалом! Его хрупкость не брали в расчет! Естественная мысль о булыжнике никому не приходила в голову! Как бы не подлежало сомнению, что между булыжником и стеклянной стеной непроницаемая двойная преграда: Закон и Здравый Смысл. Считалось аксиомой: в Европе в мирное время любое окно почти в такой же абсолютной безопасности, как человеческая жизнь. Даже мировая война не всех освободила от этих иллюзий - только Хрустальная ночь их погасила насовсем. И когда загуляло по немецкоязычным газетам гордое славянское слово Pogrom, - западные люди оплакивали не евреев - а раздавленное самомнение западного ума.
Кстати, соратники, - сказали бы там в ГБ кому следует: неудобно, что колкрик звучит как неродной, - отчего бы не переделать его слегка в стиле национального рунического знака? Возьмите, например, хайло - коренное русское словцо, обозначает орган личного волеизъявления. Ваши академики без труда установят, что взвизг хайл - не что иное, как голос множества, что это самобытный термин славянского народовластия...
"Terra Fantastica" - вполне уместное название для приличного издательства, не правда ли?
Письмо XXV
6 декабря 1995
Как при социализме нарядней других одевались женщины, умевшие не скучать с тогдашними любимцами судьбы, - так нынче о книжках можно заключать по внешнему виду: чем обложка прочней, чем страница шелковистей - тем бездарней текст.
"Оглашенные" Андрея Битова - исключение, притом необычайно заметное. Если у издателя Ивана Лимбаха - прежде как будто неизвестного - хватит капитала еще хоть на несколько подобных томов, - он войдет в историю.
Да хоть и не хватит - уже вошел. Ни Гёте, ни Прусту какому-нибудь, ни даже Г. Маркову не снилось подобное оформление - солидное, изящное, благоговейно запечатлевшее каскад авторских капризов.